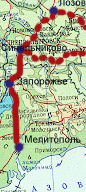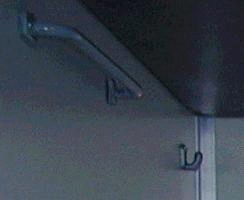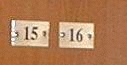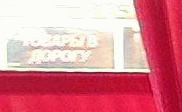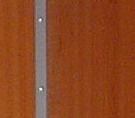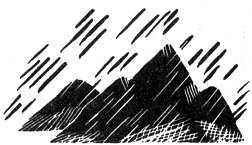Юлия Глек
Воспоминания о Сочи и Хоббите

Дети многое воспринимают совершенно не так, как взрослые. Я, например, в детстве обожала болеть. Сейчас я это дело ненавижу, но тогда перспектива не пойти в школу с лихвой окупала все неприятные ощущения, связанные с болезнью. То же касается и поездок по железной дороге. Сейчас они меня ну совершенно не радуют, я мирюсь с ними, как с необходимым злом. В детстве же все, связанное с железной дорогой, приводило меня в телячий восторг. А уж моё счастье по поводу каждой
нашей ежегодной поездки в Сочи просто не поддавалось описанию. Поэтому неудивительно, что картина нашего отъезда до сих пор сияет в моем воображении как новенькая, несмотря на то, что дело было уже давненько.
Июльский день. Солнце жарит вовсю. Асфальт на привокзальной площади кажется белым. По ту сторону раскаленного пространства - здание мелитопольского вокзала с часами на манер каминных, только большими, в полукруглой нише на фронтоне. Часы не идут. Во времена, относящиеся к моему детству, они, по-моему, вообще никогда не шли. Мы с родителями и чемоданами выходим на перрон, и здесь меня окончательно окутывает атмосфера путешествия, а горячий ветер над раскаленным асфальтом и есть тот самый ветер дальних странствий, о котором пишут в книжках, и пахнет он креозотом.
На перроне стоит серенький Ильич. На постаменте возле него – несколько вялых цветочков. Кстати сказать, он потом благополучно пережил все перестроечные и “незалежные” бури, и был демонтирован уже в двадцать первом веке во время реконструкции вокзала, поскольку мешал укладывать европлитку. Но, под давлением мелитопольских коммунистов, был водружен снова, правда, уже не на перроне, а на привокзальной площади, сбоку. В порядке компенсации его покрасили бронзовой краской.
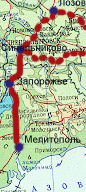
Рельсы ослепительно блестят на солнце и, изгибаясь, скрываются за поворотом. Рельсы – удивительная штука. Они одновременно и тут, и где-то там. Они соединяют Мелитополь с другими городами и даже – шутка сказать! – с Сочи. На станции Мелитополь нет подземного перехода на платформы,
а старый деревянный мост просто перекинут через пути, спусков на платформы с него тоже нет. Поэтому, когда пассажирскими составами заняты все пути (а летом так бывает постоянно), косноязычное вокзальное радио надрывается, требуя от проводников, чтобы они открыли тамбуры вагонов для прохода пассажиров. Проводники делают это без особой охоты, к тому же бег с препятствиями через тамбуры поездов с тяжелыми чемоданами в руках – удовольствие на любителя. Поэтому мы внимательно слушаем, на какой путь приходит наш поезд, и с головы или с хвоста у него нумерация вагонов, в надежде, что удастся обойтись без тамбурной эквилибристики. Я тяжелых вещей, конечно, не несу, но не люблю ходить через тамбуры потому, что мне все время кажется, что поезд сейчас тронется.
Предположим, что на этот раз нам повезло и поезд прибывает на второй путь, а поезд с первого пути только что отошел. Таким образом, лазить по тамбурам не надо. Мы переходим на вторую платформу по деревянному настилу между рельсами. Я смотрю влево, туда, где сквозь дрожащий воздух над путями видно белое здание элеватора. Оттуда должен показаться наш поезд, и для меня очень важно не пропустить этот момент. Жду в напряжении, и вот, сначала я замечаю чуть заметное движение, потом что-то возникает на повороте, там, где рельсы сходят на нет, и начинает расти. Вот уже ясно вида зеленая с красным физиономия электровоза, совсем еще маленькая. Кажется, что она не двигается, а просто растет. При этом меня всегда удивляет отсутствие звука. Но не успеваю я как следует удивиться, как оказывается, что звук – вот он, тут как тут. Он начинается с вибрации рельсов, которая переходит в негромкое гудение, оно все нарастает и нарастает, перемежаясь с каким-то странным звоном, и вот уже к нему примешивается характерный перестук со второй ударной долей: та-та, та-та, пауза, та-та, та-та, пауза. Я снова перевожу взгляд с рельсов на электровоз, и даже немного пугаюсь – настолько он вырос! Теперь уже ясно видно, что он двигается. Мне немного страшно, и я беру маму за руку. Конечно, я знаю, что мы стоим далеко от края платформы, и ничего страшного не произойдет, но все же. Особенно страшен момент, когда электровоз пролетает мимо нас, но это, в сущности, приятный страх, как на качелях, когда сильно раскачаешься.
Электровоз пролетел, и мимо, постепенно замедляя ход, гремят зеленые вагоны. Внизу, на уровне моих глаз, большие коричневые колеса с блестящими ободьями, какие-то толстенные пружины и другие непонятные штуки.
Наконец, поезд останавливается и глубоко вздыхает. До самого последнего момента я побаиваюсь, что нас не пустят в вагон, – вдруг нам дали какие-нибудь не такие билеты? Я ведь знаю, что бывает всякое. Но проводник смотрит на наши билеты вполне равнодушно и бросает: “Проходите”. И мы лезем в вагон по высоким железным ступенькам – занимать свои места. Ехать нам в этом поезде всего часа 3 – 4, поэтому билеты обычно берутся плацкартные. Вот после пересадки – другое дело, тогда мама старается брать купейные, если, конечно, есть такая возможность.
Итак, мы в вагоне. Мне сразу хочется нескольких вещей. Во-первых, чтобы мы уже поехали. Мелитополь за окном меня раздражает до такой степени, что даже не хочется туда смотреть. Во-вторых, мне хочется на верхнюю полку, а она поднята, и нужно, чтобы ее опустили. Но родители еще не расставили вещи под
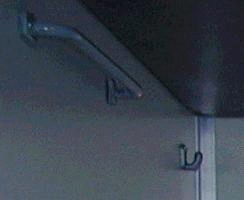
сиденьями, и я знаю, что просьба опустить верхнюю полку, лезть на которую мне нет никакой необходимости, сейчас будет встречена плохо. И даже потом мне скажут, что там полно пыли, и вообще, зачем тебе туда лезть? Еще успеешь после пересадки. Так что пока я рассматриваю попутчиков и вагон. Бывает, что вагон полупустой, и рядом с нами никого нет. Но и сам вагон – это тоже очень интересно. Интересны вторые полки – вот бы залезть! - а тем более третьи, на которых лежат свернутые матрасы. Интересны приступочки,
чтобы залезать на вторую полку – они со стороны прохода, там, где поручни, за которые нужно держаться, чтобы не упасть, когда вагон едет, а ты по нему идешь.
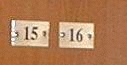
Интересны номерки, привинченные к перегородке – 21, 21а, 21б. Что это значит? Почему над одной полкой целых три номера? Интересна поднимающаяся и опускающаяся металлическая штуковина, затянутая сеткой – для чего она?

Наконец, интересен вопрос, где ехать интересней – на боковых местах, где средняя часть нижнего сиденья превращается в стол, а верхняя полка поднимается наверх, или на не-боковых местах, где едем сейчас мы? Там лучше, где нас нет. Если мы едем на боковых местах, мне кажется, что интересней на не-боковых. А если на не-боковых – мне кажется, что весь смак путешествия сосредоточен именно в боковых местах, и даже вид из окна там намного лучше.
Тем временем родители расставляют вещи и усаживаются сами. Хаос превращается в порядок, и в этом временном миропорядке мы и будем жить ближайшие 3 – 4 часа.

Невнятный голос вокзального радио сообщает, что наш поезд отправляется, и провожающих просят покинуть вагоны. Слабый, чуть заметный толчок – и бетонный столб за окном начинает медленно сдвигаться влево. Быстрее. Еще быстрее. Вот и проплыл, исчез за краем окна. Поезд набирает ход. Вот уже и следующий столб плывет навстречу. Все быстрее проплывают люди на платформе, здание вокзала в окне со стороны боковых мест (ну вот, я же говорила, что там интересней!), вот уже проехали вокзал, и за окном бегут домики частного сектора. Прощай, Мелитополь! Даже жаль тебя немного. Поезд бежит бодрой рысью, колеса равномерно выстукивают знакомый ритм со второй ударной долей: та-та, та-та, пауза, та-та, та-та. Вот проехали Северный переезд, а это значит, что Мелитополь сейчас кончится. Все. Кончился. Последние домики промелькнули в окне. Теперь я не увижу его целый месяц.
***
С самого раннего возраста и в течение многих лет мне не давало покоя одно железнодорожное чудо. Как бы назвать это чудесное явление? Назову-ка я его “летающие провода”. На столбах вдоль дороги висят провода. То есть, так кажется, пока ты не едешь в поезде. А когда едешь в поезде, они летают! Сначала плавно опускаются вниз, а потом так же плавно взмывают вверх, описывая дугу. Это чудо меня просто завораживало. Я могла наблюдать за ним часами. И, если провод вдруг кончался, - очередной столб, и вдруг – хлоп! – дальше ничего нет! – это было как ведро холодной воды. Помню, я пыталась выяснить у родителей, как это получается, но они меня не поняли. И хорошо. Благодаря этому я долго наслаждалась чудесным явлением в частном порядке. Впоследствии, когда мой
IQ возрос настолько, что я уже не могла его контролировать, и он нагло лез не в свое дело, все стало на свои места, и чудо кончилась. Провода не летают. Они просто провисают. Когда едешь мимо, они меняют положение на плоскости окна, и кажется, что они движутся. Если они провисают сильно, дуга глубокая. Если хорошо натянуты – ее почти нет. Вот и все. Но незнание этих простых фактов подарило мне много приятных минут. Поэтому, когда моя дочь в поезде спросила меня, “почему провода так делают”, я сразу же поняла, что она имеет в виду. Но не объяснила, в чем дело. Просто сказала, что так всегда бывает на железной дороге. Зачем перегружать ребенка своим непомерным IQ. Пусть себе радуется.
Были и другие великие железнодорожные тайны. Самой первой из них – “Почему все бежит мимо окон?” – хватило, конечно, ненадолго. Ее сразу же заменила другая – “Почему все бежит мимо окон с разной скоростью?”
Быстрее всего бежали цветы, трава и заляпанный креозотом гравий на насыпи, у самых колес. Все это можно увидеть, если как следует прижаться носом к стеклу. Они мчались прямо-таки с бешеной скоростью. Их даже трудно было разглядеть, потому что они норовили слиться в одну разноцветную полосу. Чуть помедленней, но тоже очень быстро, летели цветы или разноцветные лоскутья огородов рядом с железнодорожной насыпью. Еще медленней бежали деревья лесопосадки. Наконец, совсем медленно сдвигалась назад маленькие, меньше спички, электроопоры на горизонте. А солнце и большие белые облака вообще никуда не бежали. Или – их не поймешь – мчались вместе с нами, оставляя за собой цветы, огороды, электроопоры и посадки.
Став постарше, я неоднократно становилась жертвой еще одной “оптической иллюзии зрения”. Если долго смотреть в окно движущегося поезда, а потом вдруг посмотреть в окно с противоположной стороны вагона, может возникнуть впечатление, что поезд едет в другую сторону, и даже может закружиться голова. Это потому, что в окне с одной стороны все предметы движутся слева направо, а с другой –
справа налево. Несколько раз я здорово пугалась и заявляла родителям, что “мы едем в другую сторону”. Причем особенно я недоумевала оттого, что не заметила, когда мы повернули, хотя все время, не отрываясь, смотрела в окно.
***
Но, даже если не считать летающих проводов, за окном всегда много интересного. Мимо бегут огромные поля, засеянные то пшеницей, то подсолнечником, то кукурузой. Особенно красивы поля подсолнечника. Желтые головы подсолнухов все до одной повернуты к солнцу, и в этом есть какое-то геометрическое совершенство. Поля отделяют друг от друга лесополосы, которые откидываются назад, как зеленые шлагбаумы, когда мы проезжаем мимо. Только что вы видели лесополосу с одной стороны – и тут же видите с другой. А еще через пару секунд она вообще исчезает из поля зрения.
Бывает, что вдоль дороги долго-долго тянется лесопосадка, и что за ней – ничего не видно. Приходится ограничивать свои наблюдения тем, что перед ней. Иногда – если неподалеку есть какой-нибудь населенный пункт – узкая полоса между ж-д путями и лесопосадкой занята под огороды. Получаются веселые пестрые лоскутки, на которых растет тот же подсолнечник, или кукуруза, или просо, или не то кабачки, не то тыквы с большими оранжевыми цветами, или что-нибудь еще. Если поблизости никто не
живет, пространство у железнодорожной насыпи не занято под огороды, и мимо проносится такое количество полевых цветов, что рябит в глазах. Все они выдержаны в бело-желто-синей гамме, с вкраплениями фиолетового. Я стараюсь их рассмотреть, но при такой скорости это плохо удается, к тому же я все равно не знаю названий большинства из них. Разве только цикорий, которого везде много, и полевой вьюнок.
Мимо проносятся села с гуляющими курами и пасущимися козами, домики железнодорожников прямо посреди чистого поля, не огороженные заборами, что нетипично для наших краев
и всегда немного удивляет меня. Зубчатая линия тополей на горизонте. Высоковольтные линии с широко раскинутыми руками электроопор, уходящие вдаль согласно законам перспективы. Маленькие домики вдали на холме и огромные облака над ними. И всего так много, и все ужасно интересно.
Примерно через час доезжаем до станции Таврическ, и здесь поезд делает остановку. Главная достопримечательность Таврическа – Кремль. Да, самый настоящий Кремль! Как и положено, с зубчатой стеной и башнями. Он стоит рядом с железной дорогой, на обрыве, и его хорошо видно, когда поезд проезжает мимо. Это, конечно, не точная копия и не макет, а здание неизвестного мне назначения, имеющее несомненное сходство с Московским Кремлем. Явление странное, не спорю, и, к сожалению, его история мне неизвестна. Вероятно, некий местный начальник решил таким образом выразить свои верноподданнические чувства. Сейчас, в 2003 году, там царит мерзость запустения, что видно по выбитым стеклам. А ведь теперь это – самый настоящий исторический памятник, памятник ушедшей эпохи, даже если его архитектурные достоинства сомнительны, а идеологическая подоплека не очень-то соответствует политическому курсу государства, на территории которого он находится.
Несомненно одно – пока Кремль окончательно не разрушился и не разобран на кирпичи, Таврическ чем-то выделяется из массы сотен и тысяч других маленьких городков. Проехать через Таврическ и "пропустить Кремль" казалось мне в детстве серьезным упущением.
После Таврическа начинается Каховское водохранилище и тянется до самого Запорожья. Тут тоже есть на что посмотреть. Уточки, чаечки и лодочки плавают. Рыбаки с удочками ловят рыбу. Камыши колышутся по ветру. Острова манят зеленью, и кажется, что там, на том берегу, есть что-то необыкновенное, интересное, замечательное, чего нет больше нигде, знать бы только – что. Особенно, если где-нибудь из зарослей торчит чья-то палатка. Сверкающая светло-серая вода манит к себе, и, как себя не уговариваешь, что уже завтра
будешь в Сочи, а там в сто раз лучше, все равно хочется купаться. Кое-где водохранилище настолько широкое, что противоположного берега не видно. Тогда иллюзия моря получается полная, и купаться хочется еще больше. А на берегу, где плещутся маленькие волночки, лежат огромные гранитные глыбы с острыми краями, совершенно непохожие на черноморскую гальку.
Железнодорожные пути повторяют контуры берега. Поэтому иногда, когда дорога поворачивает, можно увидеть в окне, если прижаться носом к стеклу, хвост своего же поезда, или голову – если едешь в одном из последних вагонов. Это тоже интересно – едешь в поезде, и при этом видишь его со стороны. Иногда мимо проносится железнодорожный мост – зигзагообразная металлическая конструкция. Мерный перестук колес тогда сразу усиливается в несколько раз и превращается в грохот.
Каховское водохранилище тянется за окном около часа. Потом мы приезжаем в Запорожье. Ехать после Запорожья уже не так интересно.

Каховка кончилась, и пейзаж за окном, в общем-то, один и тот же. Но нам уже скоро выходить, а значит, нужно поесть. Открывается сумка с едой, на столике расстилается чистая газетка, и на ней раскладывается и нарезается копченая колбаска, огурчики, помидорчики, картошка в мундирах, яйца вкрутую и хлеб. Соль – в специальной жестяной баночке из-под кинопленки. Отец возит в ней соль из года в год. И ничего вкуснее этого на свете нет, потому что это – еда в поезде, а за окном мелькают поля и лесопосадки.
***
Первая, меньшая, часть нашего путешествия подошла к концу. Мы выходим из вагона на станции, где нам предстоит сделать пересадку. Иногда это Лозовая (Харьковская обл.), иногда – Синельниково (Днепропетровская обл.). Синельниковых, вообще говоря, два. На станции Синельниково-1 – двухэтажное красное здание вокзала. Синельниково-
2 – это маленький одноэтажный вокзальчик, облицованный светлой керамической плиткой. За долгие годы наших поездок в Сочи по железной дороге мы многократно делали пересадку как в Лозовой, так и в обоих Синельниковых с редкими вкраплениями пересадок в Запорожье и Ясиноватой (Донецкая обл.). Поэтому все эти станции были нам более-менее знакомы, хотя, понятное дело, мы знали только вокзал и его ближайшие окрестности. Билеты мы, конечно, старались брать так, чтобы поменьше торчать на станции пересадки. С другой стороны, всегда возможно опоздание первого поезда, а значит, времени до отправления второго должно быть с запасом. Обычно на станции пересадки мы проводили часа полтора – два. Поэтому, когда мы выходим на перрон, главная наша задача – найти место, где можно сесть не на солнцепеке. Бывает, что такое местечко удается найти снаружи, а бывает, что и нет. Тогда мы идем внутрь, в зал ожидания, и стараемся найти 3 – 4 свободных кресла подряд. Как правило, это нам удается.
В детстве я была страстной поклонницей вокзальной архитектуры. Наверное, родись я в другое время или в другой стране, я обожала бы церкви. Ну а так, как оно есть, я обожала вокзалы. Меня завораживали высокие потолки, своды, огромные висячие люстры, колонны, пилястры, капители, консоли, лепные плафоны и розетки, гипсовые завитушки, листочки, цветочки, пятиконечные звездочки, серпы и молоты и прочие финтифлюшки и прибамбасы. И чем больше и аляповатей, тем лучше. Я стояла и, запрокинув голову, рассматривала все это до тех пор, пока не чувствовала, что теряю равновесие. А окна в два ряда – сверху и снизу! А переходы, огороженные перилами, на высоте второго, а то и третьего, этажа! Интересно, кто там ходит и зачем?
На какой бы вокзал я не попала, я всегда осматривала его самым тщательным образом, впитывая в себя всю эту красоту. Само ощущение огромного гулкого пространства над головой нравилось мне до невозможности. Но даже самый аляповатый зал ожидания в стиле советского рококо нельзя рассматривать в течение полутора часов. К тому же, в других помещениях вокзала тоже могут скрываться шедевры. Поэтому сразу же, как только вещи компактно сложены возле кресел (деревянных со скрипучими откидными сиденьями во времена моего раннего детства, а позже – разноцветных пластмассовых), мне хочется пойти погулять.
Обычно это осуществляется так: сначала мы идем с кем-то одним из родителей, а второй остается с вещами. Потом можно поменяться. В более поздние времена количество гуляющих увеличивалось за счет младшего брата. Конечно, на любом вокзале есть автоматические
камеры хранения. Набираешь код, бросаешь беленькую пятнадцатикопеечную монетку – и с пустыми руками идешь по своим делам. Но идти нам было особенно некуда, поэтому камерой хранения мы пользовались редко.
Чем заняться на вокзале во время ожидания поезда? Можно свериться с расписанием поездов. Это никогда не помешает. Расписание висит высоко на стене, и под ним толпится народ. Оно состоит из прозрачных полос пластмассы с написанными на них черными буквами и цифрами. Полосы вставляются слегка наклонно в специальные рамки. Если поезд отменили, его можно легко убрать. Если появился новый, можно легко вставить новую полоску. Расписания поездов северного и южного направления висят отдельно, рядом друг с другом. Убедившись по расписанию южного направления, что поезд, на который нам продали билеты, действительно существует и ходит по четным числам, и сегодня как раз четное число, и время отправления соответствует тому, которое указано у нас в билетах, мама некоторое время рассматривает расписание поездов северного направления, уже сейчас прикидывая, как добираться обратно. Но мне даже думать не хочется о таких вещах, да еще сейчас, когда наше путешествие в самом начале.
Когда из расписания извлечена вся полезная информация, мы идем дальше. Можно, например, ознакомиться с ассортиментом киоска “Союзпечать”. Кстати, иногда хорошие книги продавались в самых неожиданных местах вроде вокзальных киосков. Но даже если ничего особенно хорошего там нет, можно купить что-нибудь из обычного ассортимента советских газет и журналов
. Ехать нам предстоит долго, поэтому есть смысл взять что-нибудь почитать. “Правда”, “Комсомольская правда”, “Труд”, “Известия”, “Литературная газета”, “Работница”, “Крестьянка”, “Крокодил” - как привычно смотрелись они на прилавках “Союзпечати”, а теперь все это уже история. Как и сама “Союзпечать”.
Еще можно посмотреть, что продается в вокзальном буфете. Неприятие нашим семейством общепита в общем распространяется и на вокзальные буфеты в частности, но такие изделия, как “кольцо песочное”, или “полено украинское”, или “булка с повидлом”, или “кекс какой-то там” считаются вполне безопасными при приеме внутрь, к тому же сейчас, при совке, и стоит-то все это сущие копейки.
Итак, мы идем в буфет. Там в стеклянных витринах-холодильниках лежат котлеты, украшенные звездочками из вареной морковки, жареные пирожки с мясом, какие-то заскорузлые блины, и вид у всего этого такой, будто лежит оно тут с момента сдачи в эксплуатацию здания вокзала. По крайней мере, когда мы в прошлый раз делали тут пересадку, я все это
точно уже видела. Да и воспринимаю я всю эту снедь не как продукты питания, которые можно есть, а как некий вокзальный атрибут, как то, что обязательно должно быть на вокзале, вроде специфического вокзального запаха или расписания на стене. По ту сторону прилавка скучает буфетчица. Клиентов у нее немного, и, судя по выражению ее лица, ей бы хотелось, чтобы их совсем не было. Рядом с ней на прилавке стоят подносы с выпечкой. Если по ним бегают мухи, не берем. Если подносы прикрыты марлей или целлофаном, спрашиваем, свежее ли. Если ответ положительный, то акт купли-продажи трех булочек с повидлом (колец, поленьев, кексов) благополучно состоится.
Чем еще можно развлечься на вокзале? Есть еще одна занятная штука. Нечто вроде небольшого железного шкафа с чем-то вроде клавиатуры на уровне моей груди и чем-то вроде окошка немного повыше. На клавиатуре – кнопки с названиями городов. Нажмешь кнопку – и в окошке начнут быстро-быстро переворачиваться страницы, которые держатся на металлических рамках, и будут переворачиваться до тех пор, пока не выскочит листок с названием города на нажатой кнопке. Там перечислены все поезда, проходящие через данную станцию, их номера, названия и время прибытия и отправления. Смотреть, как мама пользуется этими штуками, и нажимать на кнопки самой мне очень нравится. Особенно нравится, как шелестят страницы.
Пожалуй, этим и исчерпывается все, чем можно заняться в здании вокзала. Еще есть билетные кассы с неизбежной очередью, но они нам (к счастью) не нужны, поскольку билеты взяты заранее. Медпункт. Комната матери и ребенка. Туалет – вот это нужное заведение. Понятно, что он жутко вонючий, и, зайдя в него, я дышу ртом. Но лучше сходить здесь, чем потом лишний раз заходить в туалет в поезде. Там и качает, и грохочет, и часто бывает занято, а уж воняет не меньше. Поэтому посещение вокзального туалета входит в обязательную программу, после выполнения которой делать нам больше в здании вокзала нечего, и мы выходим наружу.
Снаружи ровный серый асфальт перрона и прямоугольные клумбы с розами и петуньями, которые трепещут от жаркого ветра, как будто хотят взлететь. Следы известки на бордюрах. Гудки поездов - тонкие, потолще и совсем толстые, басом. Бесконечные переговоры таинственных голосов, которые перекликаются неизвестно откуда. Говорят они так же невнятно, как переговорное устройство в билетной кассе, но, похоже, прекрасно понимают друг друга. А если непосвященным и удается что-то разобрать, то от этого становится еще непонятней, потому что говорят они на особом железнодорожном диалекте.
Все это создает неповторимое ощущение дороги, причастности к этой странной и таинственной жизни.
На перроне люди в ассортименте – сидящие, стоящие, идущие, бегущие, молчащие, орущие, жующие, глазеющие по сторонам. Поезда прибывающие и отправляющиеся. Объявления по радио: “На второй путь прибывает…” Стук колес. Металлический лязг вагонов из конца в конец состава. Манящие огни дальних семафоров. Выход в город – несколько ступенек, огороженных перилами. Там, за этими ступеньками, никто никуда не едет. Там – неизвестный мне город, люди, идущие по своим делам. И я понятия не имею, что находится вон за теми домами или куда идет автобус, остановившийся на привокзальной площади. Но мне это и не нужно. Скоро я отсюда уеду, а они останутся.
Еще одним пересадочным развлечением является железнодорожный мост. Мне обязательно нужно на него слазить, иначе жизнь прожита зря. В большинстве случаев мне это удается. Стоя на мосту, я вижу под ногами целое поле переплетающихся рельсов и шпал. Пути параллельные, сходящиеся, расходящиеся, а повыше, но все равно под ногами – такое же запутанное переплетение проводов с нанизанными на них круглыми гармошкоподобными штуковинами. Вагоны один за другим выплывают у меня из-под ног, на крышах у них круглые штуки, похожие на грибы. Я знаю,
что это для вентиляции. Семафор вдали горит то красным, то зеленым, а есть еще совершенно непонятные маленькие семафорчики, которые стоят среди путей и горят синим цветом. Это непостижимо. Ну, красный – ехать, зеленый – стоять, а синий что? Еще одна железнодорожная тайна.
Тут оказывается, что до прихода нашего поезда осталось уже немного, и мы спешим обратно. Минуты тянутся долго-долго, и вот, наконец, долгожданное объявление по радио. Мы собираем вещи и снимаемся с места.
Если дело происходит в Синельниково, то там пути по обе стороны вокзала, и поезда объявляют так: “Поезд такой-то прибывает на такой-то путь западной (или восточной) стороны”. И прежде, чем куда-то бежать, нужно как следует сообразить, которая тут сторона восточная, а которая западная. И от этого еще загадочней и интересней.
После обычной посадочной суеты размещаемся в купе, и станция за окном сразу же перестает меня интересовать.
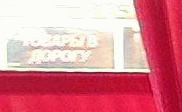
Начинается вторая часть путешествия.
В памяти сохранилась совершенно четкая картинка. Я – в поезде, отправление которого только что объявили. Слабый толчок – и за окном почти черные силуэты больших елей, растущих рядом со зданием вокзала, начинают медленно сдвигаться влево на фоне дымчато-розового заката. Картина потрясающее красивая, есть в ней что-то тревожное, строгое и многообещающее. Эта станция – Ясиноватая. Я – подросток.
***
Итак, поездка в Сочи, часть вторая. Теперь мы едем в купе.

По сравнению с плацкартом здесь комфортно, даже роскошно. Здесь мягкие полки, третьих полок нет вообще, зато есть большая ниша над дверью, в которую можно положить чемоданы.
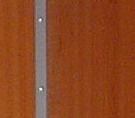
Боковых мест тоже нет. Вместо них в коридоре – круглые откидные сиденьица на пружине, которые громко хлопают, когда с них встаешь. Когда стемнеет, можно выключить общий свет наверху, включить лампу на стене над головой и читать. В дверь вделано зеркало,

а сама дверь не открывается, как обычно, а отодвигается влево. Еще на ней есть замок, который я боюсь закрывать, когда я одна в купе, а то вдруг потом не смогу открыть.
Местность, которая бежит теперь за окном вагона, знакома мне гораздо меньше, чем сто раз изъезженный участок до пересадки. Но пока там не видно ничего особенного. Все те же поля, посадки и огороды. Когда мы проезжаем через Донбасс, бывают видны терриконы, но эти искусственные горы не производят на меня особого впечатления. Я жду настоящих.
Нечувствительным образом мы пересекаем границу Украинской Советской Социалистической Республики и оказываемся на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Никакой границы, разумеется, нет, и, пока мы не проедем через город, о котором точно известно, что он – российский, можно сколько угодно гадать, где же мы сейчас находимся – уже в России или еще на Украине. По правде говоря, никто и не интересуется такой чепухой. Меня это тоже мало занимает.
За окном уже Кубань, которая внешне ничем не отличается от Украины. Те же поля, те же лесопосадки, та же бело-желто-синяя гамма цветов за окном. Та же синяя линия горизонта, то ровная, то зубчатая от рядов тополей или электроопор вдалеке. На станциях за окном слышится тот же суржик, кажется, здесь его даже больше, чем на Украине.
Чем заняться, когда едешь в поезде сутки? Такой проблемы у меня никогда не возникало. Езда в поезде сама по себе доставляла мне живейшее наслаждение. Некоторые в поезде не могут спать. Мне спалось прекрасно. Стук колес отлично убаюкивал. Любила я и просто лежать на спине, глядя в потолок, и слушать перестук колес. Под этот стук приходили такие интересные мысли. Если в купе с нами ехали посторонние (а это бывало почти всегда, потому что сначала мы занимали всего две, а потом три полки, ведь маленькие дети едут без места), мне было интересно наблюдать за чужими людьми, смотреть, какие они, как себя ведут, какое впечатление стараются произвести друг на друга. Конечно, я делала это незаметно. Обычно особенно смотреть не было необходимости, достаточно было слушать.
Как-то раз (мне было лет одиннадцать) билеты нам дали таким образом, что одно место оказалось в другом вагоне. Туда посадили меня, потому что брат был еще маленький, и родители поехали вместе, чтобы справляться с ним сообща. Мое место было на верхней полке. Я легла туда и пролежала до вечера, пока меня не позвали к нашим ужинать. Попутчики, в конце концов, стали поглядывать на меня как-то странно, видимо,
находя такое поведение неестественным. Это были две мамаши, одна с сыном, а другая с дочерью немного старше меня. Стоп, как их могло быть четверо, ведь я занимала четвертую полку? Вероятней всего, это был плацкартный вагон, и кто-то из них ехал на боковых местах. Мамаши отлично развлекали меня, все время стараясь похвастаться друг перед другом своими детками, но так, чтобы это было в границах приличия и выглядело “интеллигентно”. Потом оказалось, что одна из них – учительница географии. Пока мы ехали по Донбассу, она пыталась устроить нечто вроде викторины по своему предмету, и, очевидно, для массовости мероприятия, попыталась привлечь и меня. Но я сказала, что географию еще не учила (это была правда, географию начинали учить с пятого класса), и меня оставили в покое.
Еще в поезде можно читать, правда, с моей скоростью чтения любого чтива мне хватало ненадолго. Иногда мы с отцом играли в слова: из одного длинного слова нужно составить много коротких, или составлять слова, прибавляя по одной букве, на игровом поле в клетку. Постоянное, хотя и немудреное, развлечение предоставляет окно, за которым пролетает всякая всячина. А когда все это надоест, можно снова лежать на спине и слушать стук колес. Вдруг привычный ритм прерывается неприятным беспорядочным шумом
– это идет встречный. За окном мелькают вагоны, зеленые – пассажирские, или коричневые – товарные, или черные и белые цистерны. Вот проезд прошел, и снова воцаряется ритмичный перестук. Потом он снова нарушается, на этот раз тягуче замедляясь. Значит, сейчас будет станция. Так и есть. Остановка. Полка без плавных покачиваний сразу кажется тверже. Меня выбили из ритма, и мне это неприятно. Но ничего не поделаешь. Можно встать и посмотреть, какая станция. А можно и не вставать.
В раннем детстве, когда поезд стоял на станции, а мне хотелось, чтобы он поскорее поехал, я имела обыкновение толкать стол в купе, таким образом его подгоняя. И это всегда давало результат: поезд в конце концов трогался.
Вот и снова поехали. На некоторых участках поезд набирает скорость и снова сбивается с такта, колеса отстукивают уже не ритм, а какую-то тарабарщину. Вагон качает сильнее – чтобы не сказать швыряет. Если в такой момент идешь по вагону, нужно крепко хвататься за что попало. “Поезд пустился вскачь” – называю я это про себя.
Как и большинство детей, я обожала забираться на верхнюю полку. С верхней полки в окне толком ничего не увидишь, зато жизнь как таковая кажется оттуда не в пример лучше. И, если уж выбирать, то, конечно, лучше ехать на второй полке в купейном вагоне. Тогда над тобой не третья полка, а высокий со скругленными углами потолок, покрытый белой пористой штуковиной, и можно заглянуть в нишу для чемоданов, а это очень интересно. Когда приходит время еды, меня зовут вниз. Там на столике уже разложена моя любимая дорожная еда – копченая колбаска или жареная курица, яйца вкрутую, огурчики, помидорчики и картошка в мундирах. Проводник приносит чай в стеклянных стаканах с алюминиевыми подстаканниками и сахар-рафинад, упакованный в тонкую бумагу по два кусочка, со сдвижной картинкой сверху, как будто это не сахар, а маленькая шоколадка. На картинке под углом к оси зрения нарисован локомотив. И хотя все это так вкусно, что дальше некуда, я не могу дождаться того момента, когда можно будет снова залезть на верхнюю полку. Правда, это временно: спать на верхней полке мне еще не разрешают. Ночью верхнюю полку занимает папа.
Существвовало два железнодорожных маршрута до Сочи - через Краснодар и через Армавир.

В разные годы мы ездили по-разному, и выбор зависел не от наших предпочтений, а от наличия билетов в кассе. Причем несколько лет подряд получалось так, что горы за окном начинались ночью. До самой темноты за окном бегут поля и лесопосадки, под стук колес в вечерней синеве зажигаются и медленно-медленно проплывают далекие огни, а потом появляются новые. А утром открываешь глаза – и оказываешься в другой стране. Контраст поразительный. Горизонта больше нет. За окном громоздятся горы, поросшие лесом. Теперь видно меньше в плане охватываемого взглядом пространства, но больше в плане его насыщенности.
Мне было ужасно интересно, где и как начинаются горы.
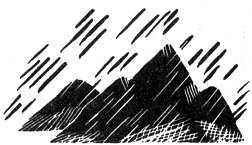
Несколько раз я пыталась не спать, чтобы не пропустить этот момент. Понятно, ничего не получалось. Я неизменно засыпала как убитая, а утром обнаруживала, что мы едем среди гор, и, судя по всему, уже давно. Да если бы и удалось не заснуть, что бы я смогла рассмотреть, когда за окном – хоть глаз выколи! Наконец, в одну из поездок волнующий момент перехода от равнины к горам пришелся на дневное время, и мне все-таки удалось выяснить, где же именно горы начинаются. Начинаются они возле Тимашевской. Именно там земля впервые вздыбливается, и, хотя это еще не горы, а горки, даже неискушенному в геологии взгляду понятно, что это не те балки и холмы, которые часто можно встретить и на равнине, а нечто совсем другое. И это другое выпирает изнутри, пока еще слабо, но уже многообещающе.
Дальше – больше (закон природы). Возле Горячего Ключа земля дыбится уже сильнее, за Горячим Ключом – еще сильнее, и вот мы уже едем среди самых настоящих гор. Едем мы среди них долго, часов восемь, и все это время я почти не отрываюсь от окна. Горы все время разные. Картина меняется, как в калейдоскопе, разве только чуть медленнее. Одна и та же долина между горами может выглядеть совершенно по-разному в тот момент, когда впервые открывается передо мной впереди по ходу поезда, и в тот, когда я бросаю на нее последний взгляд перед тем, как она скроется окончательно. Вид из разных точек настолько отличается, что иногда вообще трудно поверить, что это одно и то же место.
Горы вблизи - темно-зеленые, и в чаще можно различить кроны отдельных деревьев размером не больше монеты. Это поражает. Ведь если большое дерево кажется таким крошечным по сравнению с горой, на которой растет, то сами горы просто циклопичны. За первым, темно-зеленым, планом, следует второй – сине-зеленый, цвета морской волны. Там отдельных деревьев уже, конечно, не различишь, зато лучше видна каждая гора в целом. Когда поезд проходит мимо, горы как бы поворачиваются к нему с разных сторон, постоянно меняя форму. И, наконец, на заднем плане выступают бледно-голубые, кажущиеся полупрозрачными на фоне синего неба, силуэты. Самые дальние из них почти неотличимы от облаков. И все это поражает своим величием. Действительно, “лучше гор могут быть только горы”.
Иногда поезд идет мимо разломов, где часть горы как будто срезана ножом, и видно, что внутри она похожа на слоеный пирог. С близкого расстояния отчетливо видны слои горных пород, иногда разные по цвету, а иногда и нет. Эти слои могут идти горизонтально, могут – наклонно, а иногда имеют форму параболы, как будто деформировались от сильного сжатия с боков (так оно, наверно, и было). Но даже в этом случае структура слоев не нарушается, и каждый из них точно повторяет форму соседнего.
Растительность здесь тоже отличается от той, что была до гор. По мере приближения к Сочи влажность все время увеличивается (как-никак, влажные субтропики). По бокам железнодорожной насыпи буйствует зелень. Встречаются заросли огромных хвощей, гораздо крупнее тех, которые
растут у нас, растения с крупными листьями вроде лопухов, многочисленные лианы, взбирающиеся на деревья, кусты ажины, усыпанные черными и красными ягодами. Палитра цветов по-прежнему остается бело-желто-синей, но среди них появляются те, которых не было раньше: большие белые вьюнки, которые растут только во влажных местах, пышные заросли желтого зверобоя. Но даже самые обычные, уже примелькавшиеся за время поездки цветы выглядят здесь как-то иначе, экзотичней.
Другая здесь не только природа. Даже из окна поезда на полной скорости хорошо видно, что здесь иначе строят дома. Большинство из них – не из кирпича, а из дерева. И если на Украине крыши обычно двускатные, крытые шифером или железом, реже – черепицей, то здесь они – в форме четырехугольной пирамиды и
крыты по большей части толем. Для меня эти крыши – символ какой-то южной, более легкой жизни, легкой в смысле более легкого и радостного отношения к ней. Хотя люди, живущие под этими крышами, возможно, со мной бы не согласились.
Все это тянется за окном много часов, а потом мы подъезжаем к Туапсе.
То, что мы подъезжаем к Туапсе, можно точно определить (помимо расписания движения поезда) по факелу. Очевидно, там есть какое-то газодобывающее предприятие, и на подступах к городу горит большой газовый факел, который я из года в год считаю своим долгом пронаблюдать.
Туапсе – особое место. С него-то и начинается (для нас, пассажиров железной дороги) Черноморское побережье Кавказа.
На станции Туапсе можно купить большие пряники в виде петухов, которые являются местной достопримечательностью. Еще там впервые видишь кипарисы и большие ели (а может, это пихты?) особой разновидности, которая встречается только на юге. Их силуэты ни с чем не спутаешь. А главное – сразу за Туапсе начинается море.

Это ставит меня в трудное положение. Справа по ходу поезда – море, слева – горы, а мне хочется смотреть и туда, и сюда. Если вагон плацкартный, это относительно легко. Ну а если мы едем в купе, приходится выбирать. Сначала, конечно, вопрос решается в пользу моря, ведь горы я вижу уже на протяжении нескольких часов.
Итак, море. Оно всегда открывается внезапно, хотя прекрасно знаешь, что оно начинается сразу за Туапсе. Едешь, едешь, и вдруг, раз – справа по ходу поезда строения и деревья исчезают, и вместо прямых углов, ровных линий и твердых плоскостей возникает нечто, не имеющее постоянной формы и границ, постоянно движущееся, меняющееся, играющее солнечными бликами так, что невозможно смотреть. Свободная стихия.
Когда в возрасте 9 лет я впервые увидела Азовское море, то в первый момент даже не поняла, что это такое, потому что оно было совершенно не похоже на то, к чему я привыкла. Песчаный пляж и блеклая голубая поверхность, почти сливающаяся с небом у горизонта. Не было даже характерного, пробирающего до печенок соленого морского запаха. Вернее, он был, но слабый, чуть заметный, тень того, настоящего. Да и все Азовское море было для меня бледной копией настоящего моря. Настоящим
было Черное.
Черное море блеклым не бывает. Оно или синее, или зеленое. В нем нет и тени меланхолии, которой веет от широкого блеклого азовского полумесяца, ограниченного песчаным пляжем с одной стороны и полукругом пустого горизонта – с другой. В солнечный день оно искрится радостью, обрекая на танталовы муки пассажиров жарких вагонов, – видит око, да
зуб неймет. В пасмурные - оставляет впечатление суровой и грозной силы, скрывающей под зеленой постоянно меняющейся поверхностью некую тайну, недоступную для людей. А во время шторма поражает своей мощью.
Мне уже хочется выйти в этот чудесный мир снаружи, но нам ехать еще 4 часа. Железнодорожные пути повторяют контуры берега. Мимо мчатся пляжи, покрытые галькой – то мелкой, то крупной, больше похожей на валуны. Кое-где на берегу навалено множество “волноломов”. Это такие большие железобетонные штуковины, напоминающие противотанковые ежи. Очевидно, ими укрепляют берег, если, конечно, не свалили просто так.
Возле населенных пунктов и многочисленных “черноморских здравниц” пляж поделен на участки “бунами”, т.е. не очень длинными бетонными пирсами. Кое-где они новые, высокие, а кое-где - старые, низкие, вросшие в дно, поросшие водорослями и наполовину развалившиеся. В щелях и выбоинах там наверняка полно крабов, но проверить это нет никакой возможности. На пляжах полно народу, что усиливает танталовы муки. Местами берег сплошь покрыт разноцветными подстилками, на которых лежат люди в плавках и купальниках, а вода у берега усеяна головами, плавающими, как пластмассовые поплавки.
Там, где местность более-менее безлюдная, нет бун, а купающиеся очень редки. Но от этого легче не становится. Пляж манит своей безлюдностью, девственностью, настоящей дикостью, как будто там и правда никогда не ступала нога человека.
Море на всем протяжении пути до Сочи редко бывает пустынным, что опять-таки составляет контраст с вечно пустым азовским горизонтом в районе Кирилловки. То и дело видны то плавучий кран, то “комета” на воздушной подушке, похожая по форме на карандаш и движущаяся очень быстро, то катер, то приземистый военный корабль, то еще какое-нибудь судно неизвестного мне назначения.
После Туапсе меня ждет еще один аттракцион – выброшенный на берег корабль. Собственно говоря, их два, один побольше, другой поменьше. Оба – иностранные. Названия на бортах написаны латиницей. О том, что побольше, мама говорит, что это греческое рыболовецкое судно. Оно попало в сильный шторм. Корабль, пожалуй, не очень большой, но все равно кажется огромным. С какого года он тут лежит, неизвестно. Все, что на нем можно было оторвать, местные жители давно оторвали и утащили. Видно, как по кораблю лазят мальчишки. Я им завидую.
А с другой стороны вагона по-прежнему тянутся горы. Когда я, наконец, устаю от моря, то опять обращаюсь к горам. Хорошо высунуть голову в открытое окно, но это удовольствие стало мне доступно только во время самых последних поездок. Сначала я просто не доставала до щели в верхней части окна, которая образуется, когда его открывают, а когда стала доставать, мне это вполне резонно запрещали из-за возможности простудиться. За окном ветер треплет волосы, и видно гораздо больше, чем через стекло. Железнодорожный путь в горах редко идет строго по прямой, он приспосабливается к рельефу, поэтому видишь одновременно и голову, и хвост поезда, и горы вокруг, и речушку, журчащую внизу
по камням. Грохот колес отражается от склонов, и сумасшедшее эхо бешено скачет в ущельях.
Горы еще отнюдь себя не исчерпали. После Туапсе они показывают себя с новой стороны. И эта сторона – туннели.
Туннелей всего семь. Некоторые – короткие, поезд проезжает их всего за несколько минут. Но один – длинный, по нему мы едем целых 20 минут. Если высунуть голову из открытого окна, можно увидеть, как передние вагоны втягиваются в черное отверстие в склоне горы, облицованное камнем по периметру. По сравнению с горой отверстие кажется маленьким, но вагоны втягиваются в
него один за другим. Мне становится немного не по себе, хотя я проезжаю туннели не впервые. И вдруг – раз! – становится темно, а уши наполняются грохотом еще сильней, чем когда поезд проезжает через мост. Окно лучше закрыть, так грохочет меньше. В вагоне зажигаются желтые лампы. За окном на стенах туннеля через равные промежутки – тоже желтые лампы, очень яркие. Они неприятно ударяют по глазам, и от этого еще страшнее. Когда я была маленькая, я решала для себя проблему туннелей, пряча голову в подушку. Но не помню, чтобы они когда-нибудь внушали мне настоящий, сильный страх.
Между Туапсе и Сочи – много мелких станций, на которых поезд стоит недолго, со странными, “не нашими” названиями – Чемитоквадже, Лоо, Якорная Щель. Эти названия как нельзя лучше подходят к удивительным местам, по которым мы проезжаем. Когда из окна вагона я замечаю розовое облако, окутывающее дерево, и чувствую знакомый восхитительный запах, процесс узнавания достигает отметки 100%. Я чувствую, что мы приехали. Мы уже почти в Сочи. Остались простые формальности – несколько десятков километров.
Это – японская мимоза, дерево, покрывающееся в июле цветами, каждый из которых – пучок нежного розового пуха, а нежнейший запах слегка напоминает запах цветущей липы и мышиного горошка.
Вот, собственно, и все. Приехали. Я чувствую себя приехавшей. Вагон мне жутко надоел, скорей бы наружу. Сочи все ближе и ближе. Вон за окном – Дагомыс, где в бытность мою уже подростком построили роскошный курортный комплекс, который так здорово смотрится на склоне горы. Это значит – уже совсем близко. Это, собственно, уже Сочи, растянувшийся вдоль берега больше чем на сто километров. Мама узнает знакомые места и радуется не меньше меня. Недалеко от сочинского вокзала железнодорожные пути уходят от моря, и с обеих сторон тянется город – дома, магазины, какие-то предприятия, а между ними тут и там поднимают свои лохматые головы пальмы. Вот мы переезжаем речку Сочинку – жалкие струйки воды в мощном каменном русле. Вон улица Чайковского и дом, в котором живет моя тетя Вита. Мама показывает мне его в окне. Еще немного – и вот, наконец, станция Сочи. Поезд замедляет ход и останавливается. Выходим – не прыгая по вагонным ступенькам, а сразу ступая на платформу, потому что в Сочи высокие платформы вровень с полом вагона. В нос ударяет этот ни с чем ни сравнимый сочинский воздух, влажная смесь запахов кипарисов, самшита, олеандров,

магнолий, японской мимозы и Бог знает чего еще. А вот и магнолия, настоящая магнолия с блестящими кожистыми листьями и большими белыми цветами, растет себе из квадратного отверстия в асфальте. Я смотрю на нее, как на чудо. Да это и есть чудо.
По подземному переходу мы проходим в здание вокзала. Это - единственное из когда-либо виденных мною зданий вокзалов (а я их видела немало), которое можно назвать настоящим произведением искусства. И, несмотря на любовь к вокзальной архитектуре в худшем значении этого слова, я прекрасно понимаю, что этот вокзал – нечто особенное. Но так и должно быть, потому что это – сочинский вокзал. Мне и в голову не приходит сравнивать его с другими вокзалами.
Все. Путешествие закончено. Мы – в Сочи. Но всю следующую ночь, когда я буду лежать в своей кровати, мне будет чудиться ритмичный перестук вагонных колес. Он в меня въелся.
Глава 2
Когда-то, давным-давно – во время Второй мировой войны – семья моей матери переехала в Сочи. Начальным пунктом их маршрута, согласно семейному преданию, был Новосибирск. Причина этого вояжа мне неизвестна. Мама довольно много рассказывала мне о своем детстве, но вот сведения о том, что было
до того, очень скудны и смутны. Ее неосведомленность о прошлом своей семьи просто удивительна для человека, выросшего в нормальной, полной и к тому же многодетной семье. Насколько я понимаю, у них было не принято предаваться воспоминаниям вслух. Ей мало рассказывали о том, что было до ее рождения, а спрашивать самой ей в голову не приходило, потому что дети быстро и прочно, и при этом практически бессознательно, усваивают, какие темы в семье являются табу, т.е. о чем спрашивать нельзя. А дело, очевидно, было в том, что происхождение моих бабушки и дедушки не было безупречно пролетарским. Очевидно, детям ничего не рассказывали, чтобы они не проболтались.
О Новосибирске как начальной точке маршрута я узнала лет в двенадцать. И, поскольку речь шла о войне, решила – а может, не я решила, а мне так сказали? – что бабушка с малыми детьми поехала в эвакуацию, когда дедушка был на фронте. Только несколько лет спустя я сообразила, что это полная чушь. Никто не эвакуировался из Новосибирска, который был за тысячи километров от линии фронта. Очевидно, причина была другая. Голод? Возможно. Но с продовольствием было плохо везде. А может, начали докапываться до непролетарского происхождения? Возможно, но это только мое предположение. Ни о чем таком мне никто никогда не говорил.
Известно лишь, что до Сочи моя бабушка с имевшимися на тот момент в наличии детьми побывала в Средней Азии. Это я знаю со слов самой старшей сестры мамы, Инги, которая помнит эти события. А еще одна сестра – Изольда – родилась в Крыму, и это было еще до войны. Создается впечатление, что мои родственники после отъезда из Новосибирска кочевали, как цыгане, по всей южной части Советского Союза. Так или иначе, в конце концов они обосновались в Сочи, куда, демобилизовавшись, приехал после войны дедушка, и
там и родилась моя мать в голодном 1947 году.
Любознательному читателю интересно, наверно, узнать, какое именно “непролетарское происхождение” имеется в виду, и не родня ли я князьям Юсуповым. Увы, не родня. Не то, чтобы мне этого очень хотелось, просто так было бы интереснее. Но чего нет, того нет. Я слышала от старших членов семьи, которые, в свою очередь, тоже пересказывали чьи-то слова, что мой прадед, отец бабушки, был купцом и владел четырнадцатикомнатным домом. Это вполне уравнивало его в глазах большевиков с князьями Юсуповыми в качестве кандидата на расстрел, так что об этом обстоятельстве лучше было помалкивать. Что касается семьи деда, то уже после его смерти кто-то из старших сестер сообщил маме, что их дед со стороны отца (мой прадед) был “губернатором Феодосии” и статским советником. У меня по этому поводу есть два возражения. Во-первых, Феодосия никогда не была губернским городом, и непонятно, откуда там мог взяться губернатор. Возможно, не губернатор, а градоначальник? Неизвестно. Во-вторых, мой дед со стороны матери был евреем, а то, что еврей в царской России мог дослужиться до чина 5 класса, очень сомнительно. Может, он был крещеным евреем? Опять-таки неизвестно. Так или иначе, у дедушки с бабушкой было достаточно причин, чтобы не распространяться о своих родителях. Еще о семье деда я знаю то, что мужчины в ней часто проявляли выдающиеся математические способности, и один из его братьев поступил в Новосибирский университет в 14 лет. Дед был единственным, не получившим высшего образования. Возможно, причиной стала ранняя женитьба и многочисленное потомство.
Кроме семьи моих дедушки и бабушки, в Сочи жили мать и сестра деда и сестра бабушки. Сестра деда, которую моя мать называла “тетка Райка” в тех редких случаях, когда говорила о ней, называла семью своего брата “голодранцами” (они действительно жили бедно) и ругала свою мать за то, что та приглашала в гости внучек. Возможно, из зависти. Ее единственная дочь умерла в возрасте трех лет от заворота кишок, а у деда было семеро детей, которым упорно ничего не делалось, несмотря на голод и нищету.
О сестре матери, “тете Ксене”, у мамы остались воспоминания совсем другого характера. Она никогда не была замужем и не имела собственных детей, зато всю жизнь помогала, как могла, своей сестре и ее детям. Мама всегда вспоминала ее с уважением, граничащим с благоговением. Тетя Ксеня была старшей сестрой бабушки. До революции она успела закончить гимназию. Потом всю жизнь проработала в медицине, кем – точно не знаю, но не врачом. Тем не менее, латынь она знала так, как и не снилось врачам – выпускникам советским вузов. Еще я знаю о ней, что когда-то в голодное время (уж не знаю, какое именно голодное время имелось в виду в данном случае) она отравилась весенним зайцем, да так, что основательно испортила себе
здоровье, и последствия ощущались всю жизнь. Я немножко ее помню. Мне было тогда, наверно, года четыре. Она была уже беспомощной старухой и не вставала с постели. Лежала она у моих дедушки с бабушкой, на улице Орджоникидзе, в “беседке” (о “беседках” ниже), и ухаживала за ней бабушка, Александра Прокофьевна. Тетя Ксеня ее не узнавала и называла то кухаркой, то санитаркой. Помню еще, как мы зачем-то пошли на квартиру тети Ксени – наверно, это было уже после ее смерти. Я запомнила много каких-то вещей везде, видимо, их собирали, чтобы забрать оттуда. Квартира была государственная, и унаследовать ее было нельзя, хотя многие родственники тети Ксени, и моя мать в том числе, остро нуждались в жилье. Помню, что на столе, среди прочего, была чернильница (из тех, в которые макают) и Пушкин – кажется, бюст, а может, и портрет, тут я не уверена. Чернильница запомнилась, наверно, потому, что тогда такими уже не пользовались, и ни до, ни после я их нигде не видела, кроме как в кино.
Бабушку я тоже помню плохо. Она умерла, когда мне было 6 лет, видела я ее мало, только летом, когда мы приезжали в Сочи, да еще один раз осенью они с дедушкой приехали на несколько дней в Мелитополь. Помню ее точно такой, какой она изображена на черно-белой фотографии из семейного альбома.
Дедушку помню лучше – он умер, когда мне было 16. Но близких отношений у меня ни с бабушкой, ни с дедушкой с материнской стороны не было. Видели мы друг друга мало, а у них и кроме меня была куча внуков, в том числе и таких, которые росли в Сочи, у них на глазах, и, конечно, были им ближе.
Где жила бабушка с детьми в первые годы своего пребывания в Сочи, я не знаю. Потом с фронта вернулся дедушка. Работал он то тут, то там, какое-то время был безработным. Жили они тоже то тут, то там. Во всяком случае, жилищные условия не выдерживали никакой критики, потому что где-то в начале пятидесятых бабушка написала лично товарищу Сталину письмо, в котором жаловалась на то, что семье фронтовика, кавалера ордена Александра Невского, с семью детьми, негде жить. После этого им дали квартиру. Это была та самая квартира по ул. Орджоникидзе, в которой бабушка, дедушка, а затем некоторые из их многочисленных потомков прожили до самого конца двадцатого века. Впрочем, вершиной жилищной карьеры моих прародителей с материнской стороны стало не это, а получение двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме со всеми удобствами на улице Комсомольской, недалеко от Орджоникидзе, которое воспоследствовало году этак в семидесятом. Тут история самая заурядная. Они много лет стояли в очереди “на расширение”, потому что метраж в квартире на Орджоникидзе был недостаточен для 9 человек (2 взрослых + 7 детей). А когда достоялись, шестеро старших были уже взрослыми, и большинство из них разъехалось кто куда. Поэтому квартиру получили на троих - бабушку, дедушку и самую младшую дочь, Ларису. При таком составе семьи положена была двухкомнатная. А на Орджоникидзе остались жить две мои тетки.
В первые годы наших поездок в Сочи мы жили на Орджоникидзе, потом в основном на Комсомольской. Начну, пожалуй, с Орджоникидзе. Так оно и хронологически правильней, и самые ранние и сильные впечатления у меня тоже связаны именно с этим домом.
Итак, дом на Орджоникидзе. Сразу хочется найти какую-нибудь яркую деталь, которая показала бы, что в нем было особенного, чем отличался этот дом от миллионов других домов. Не то, чтобы таких деталей не было. Наоборот, их было даже слишком много. Можно без преувеличения сказать, что этот дом был единственным в своем роде. Но, если уж говорить о том, что сразу бросалось в глаза, то
это, конечно, дубы. Не каждый может похвастаться тем, что у него во дворе растет столетний дуб. А у нас их было целых два.
Собственно, дубы росли не только в нашем дворе. Они росли по всему кварталу, среди других таких же разномастных ветхих домишек, и на другой стороне улицы, во дворе медицинского училища. Я не знаю, искусственное это было насаждение или естественное, но склоняюсь к тому, что это все-таки была дубрава. Как-то раз (мне тогда было лет восемь - десять) к нам во двор пришел человек, сказал, что он из какой-то природоохранной организации, названия которой я сейчас не помню, и попросил разрешения осмотреть наши дубы на предмет, а не представляют ли они какой-нибудь культурной или исторической ценности. Возраст того дуба, что рос перед самым крыльцом, он определил в 100 лет, а второго, который был чуть левее и ближе к калитке, в 160. Потому-то я и думаю, что дубрава была естественная. В искусственном насаждении деревья были бы одного возраста. Да и кому в те времена могло понадобиться их там сажать
?
Дубы были огромны. Мне они казались многоэтажными. Над нижним ярусом ветвей поднимался следующий, над ним - следующий, затем - еще следующий, и так далее. Самые верхние ветви реяли на головокружительной высоте, в пространстве синего эфира, и понятия не имели о жизни внизу, о которой были так хорошо осведомлены самые нижние, под которыми вся наша жизнь
, собственно, и протекала. Среди ярусов ветвей летали сойки и прыгали белки. Дом казался грибом, прилепившимся у подножья дубов. На плоской части его крыши ровным строем поднимались молодые дубки, проросшие из нападавших желудей.
Дуб, который рос перед крыльцом, действительно рос прямо перед ним, не более чем в полуметре. Поэтому, для того, чтобы спуститься с крыльца, на нижней ступеньке нужно было свернуть вправо или влево, в противном случае вы бы треснулись об него лбом. Промазать было невозможно, потому что в диаметре этот дуб был сантиметров семьдесят. До сих пор помню форму корня, который упирался в нижнюю ступеньку, образуя наплыв. Второй дуб был метрах в 3 левее и ближе к калитке и еще мощнее, чем первый. Под ним в летнее время стоял круглый стол, за которым завтракала, обедала и ужинала вся семья. Поскольку съезжались родственники (например, как мы), то народу собиралось немало, и в доме для всей этой оравы просто не хватило бы места. Да летом и приятней есть на свежем воздухе. Мощные корни дубов поднимали и без того корявый асфальт во дворе. Стволы снизу были сплошь покрыты толстым слоем зеленого мха, на котором тут и там выделялись серебристые дорожки, оставленные слизнями. У нас, детей, была игра - обходить вокруг дубов по корням, ни разу не коснувшись земли. На Орджоникидзе мы жили в июле - августе много лет подряд. Но вот чего я не помню, так это жары. Дубы образовывали как бы огромный шатер, в котором был особый микроклимат.
Обойдя столетний дуб справа или слева и поднявшись по трем высоким ступенькам, в нижнюю из которых упирался дубовый корень, вы попадали в квартиру.
Тут нужно отметить, что дом, вообще, был очень странной конфигурации, частично деревянный, частично оштукатуренный. Возможно, он был еще дореволюционный и, скорее всего, рассчитан на одну семью. Это было видно по некоторым странностям планировки, которые, очевидно, появились в процессе переделки его на три квартиры, одна из которых
была наша. Странности эти можно было объяснить или психической ненормальностью того, кто его проектировал, или тем, что этот дом никогда не задумывался как многоквартирный.
В двух других квартирах я никогда не была. А жаль, это дало бы материал для сравнения. В нашей квартире было три комнаты и маленький коридорчик сразу за входной дверью, служивший по совместительству кухней. Вернее, под кухню была отведена правая его часть, а под проход – левая. В правой, кухонной, части с одной стороны была двухконфорочная газовая плита (сжиженный газ) и ведро с питьевой водой, стоявшее на табуретке, в котором, как сейчас помню, плавал белый пластмассовый ковшик. Противоположная стена до самого верха была занята полками со всякой кухонной утварью и продуктами. В одном месте в полках была сделана ниша, которую занимал холодильник. В стене справа было окно, а возле него – маленький столик, на котором стояла посудная сушилка с тарелками и чашками. В кухне одновременно могли находиться два человека (если они не очень растопыривали локти).
Пройдя через коридор-кухню, вы попадали в комнату. Эта комната была проходная. Из нее можно было попасть в две других. Дом имел форму ну очень неправильного многоугольника, и по крайней мере с двух сторон (что было сзади, я не помню) от его центральной части отходили выступы-пристройки, вряд ли предусмотренные первоначальным планом. А может, и предусмотренные, в этом сам черт бы не разобрался. Коридор-кухня помещался в одной такой пристройке, которая оканчивалась крыльцом из трех ступенек. В другом выступе-крыле, слева, помещалась самая комфортабельная из имеющихся комнат и соседская квартира (или ее часть). Поэтому из окна проходной комнаты (А) можно было заглянуть в окно непроходной комнаты (В), стена которой находилась под прямым углом к стене комнаты (А).
Комната (
B) считалась комфортабельной по двум причинам: а) она была не проходная; б) в ней было окно наружу. Поэтому ее обычно сдавали отдыхающим. Мы тоже жили в ней раза два или три, когда приезжали в Сочи. Третья комната (С) была темная. Окно в ней было, но выходило оно не на улицу, а в комнату (А). Оно было не застеклено, но при желании его можно было закрыть складными деревянными ставнями в виде “гармошки”. Но и после этого там нельзя было играть в жмурки, не завязывая глаз, потому что дверь отсутствовала, а дверной проем использовался в качестве дополнительного источника дневного света. Комнаты (В) и (С) были смежными, и в стене между ними была дверь. Но со стороны темной комнаты эту дверь загораживал большой старый платяной шкаф, и ею никогда не пользовались, поскольку она там была совершенно не нужна. Еще в комнате (С) была печка, потому что отопление было печное. Вообще, из удобств в доме были электричество и сжиженый газ. Водопроводный кран был в конце двора, под сенью куста фундука и дерева алычи. Рядом было подобие шкафчика – деревянный ящик без боковой стенки, укрепленный на колышке, - где лежало мыло, зубные пасты и щетки. Вода стекала в квадратный кирпичный сруб, дно которого было забрано листом жести в дырочку. Туалет был общий на несколько домов. Чтобы в него попасть, нужно было выйти в деревянную калитку рядом с краном. Аромат этого санузла ощущался в радиусе нескольких метров. Еще из удобств и хозяйственных приспособлений была ниша в цоколе под нашей квартирой, которая закрывалась крышкой и заменяла подвал. Такие ниши, кажется, вообще характерны для традиционной кавказской архитектуры. У дедушки там хранились какие-то доски и инструменты. Еще был дровяной сарай, он располагался чуть поодаль, за пределами двора. Там водились страшные большие рыжие пауки-прыгуны. Когда вы открывали дверь сарая, они на вас прыгали. То есть, прыгали они не на вас, а на свет, - инстинкт у них такой. Но вы почему-то думали, что они прыгают именно на вас. Это придавало заглядыванию в сарай особую изюминку.
Кроме рыжих пауков-прыгунов, обитавших в сарае, были еще большие черные пауки. Они жили в норках-коконах, сплетенных из паутины, которые устраивали в щелях, углублениях коры дубов и прочих укромных местах. Вели они, очевидно, ночной образ жизни, потому что днем можно было заметить только черные концы их шести ног, которые слегка высовывались из глубины кокона. Возможно, это были тишайшие и безобиднейшие создания, но мне они всегда казались страшно ядовитыми.
Как я уже упоминала, во времена моего детства на Орджоникидзе жили две мои тетки - Инга и Изольда. У Инги была дочь на пять лет старше меня, у Изольды - сын, старше меня на год. Обе они были матери-одиночки. Насколько я понимаю, в зимнее время дедушка с бабушкой жили на Комсомольской, Инга с Витой – на Орджникидзе в темной комнате, Золя с Алешей – на Орджоникидзе в комфортабельной комнате (В). А проходная комната (А) служила гостиной. Но когда начинался курортный сезон, все менялось. У нас (то есть, собственно, не у нас, а у теток и дедушки с бабушкой) всегда жили отдыхающие. И у теток, матерей-одиночек, и у дедушки с бабушкой, пенсионеров, никогда не было лишних денег. Сдача комнаты – прекрасная возможность заработать. К тому же приезжали многочисленные родственники. И всем, как ни странно, находилось место. Тому, кто знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть свое помещение до черт знает каких пределов. А тому, кто не знаком, приходится пользоваться другими методами. У нас на Орджоникидзе помещение расширялось с помощью “беседок”.
"Беседками" у нас назывались два маленьких деревянных домика, стоявшие во дворе. Крыша того, что побольше, была остроконечная. Крыша того, что поменьше, была плоская, слегка наклонная. Обе крыши были крыты толем. Окно меньшего домика было не застеклено, а просто забрано мелкой металлической сеткой. Обе беседки были выкрашены в зеленый цвет и обвиты вечнозелеными вьющимися розами, что прекрасно видно на старых фотографиях. Откуда взялись эти странные сооружения? Понятия не имею. Ответ теряется в глубине веков
. Не знаю, стоит ли его там искать. В конце концов, я ведь пишу не научное исследование.
В большей беседке стояли 2 кровати. Летом там спали дедушка и бабушка. Там же стоял телевизор. В меньшей стояла большая тахта, которая занимала две трети ее площади. Там в летнее время жили (т.е. спали, потому что жизнь как таковая проходила во дворе) т.Инга с Витой. Светлую комнату (В) сдавали отдыхающим. В темной комнате жили мы с родителями. В проходной комнате, перегороженной пополам плотной занавеской, жили т.Золя с Алешей. И, наконец, на Комсомольской жили московские родственники - дядя Вадик с женой и сыном.
Таков был наиболее запомнившийся мне расклад, хотя, конечно, бывали и варианты. Иногда в маленькой беседке жили Золя с Алешей. А когда мы жили на Орджоникидзе в последний раз (мне было лет 13), я получила эту маленькую беседку в свое полное распоряжение, потому что у нас уже был Дима, и двух кроватей, стоявших в комнате, на всех нас не хватало. В беседке было очень уютно, и воспоминания о ней остались самые теплые. Там же находилась огромная картонная коробка с книгами тети Золи, эвакуированными из комнаты, которую сдали отдыхающим. Никто меня не трогал, и я могла читать сколько влезет, а в этом и заключалось мое тогдашнее представление о счастье. Как сейчас помню: на улице шумит дождь, из окошка, забранного металлической сеткой, пахнет сыростью, а я валяюсь на широкой тахте и читаю “Записки о Шерлоке Холмсе”. Кайф, что и говорить.
Беседки занимали площадь, примерно равную половине двора. Кроме них, во дворе была еще большая добротная парковая скамейка с изогнутой спинкой (она-то откуда взялась?). Она стояла под дубом, которому, по мнению природоохранного специалиста, стукнуло 160. Рядом с ней – круглый обеденный стол, покрытый клеенкой. Когда собирались все родственники, имеющиеся в наличии, скамейки, конечно, не хватало, и из дома выносились стулья и табуретки.
За беседками, со стороны улицы, оставалось еще немного свободного пространства. Там была маленькая площадка, мощеная кирпичом, и рос куст винограда. С двух сторон площадки, под прямым углом друг к другу, стояли две лавочки – на сей раз заурядные дощечки на двух столбиках. Обойдя беседки сзади, вы попадали к тому же водопроводному крану, к которому попали бы, обойдя их спереди. Думаю, что весь участок занимал не больше двух соток. Тем не менее, он считался большим, потому что у других и того не было.
Двор был окружен живой изгородью, в которой со стороны улицы Орджоникидзе была зеленая металлическая калитка, а со стороны туалета – деревянная некрашеная. Изгородь состояла из самых разных деревьев и кустарников, за которыми, на моей памяти, никто никогда не ухаживал. Но в теплом и влажном сочинском климате все это разрослось так, что получился непроходимый заслон. Даже мне, с моим обширным мелитопольским опытом
лазанья по деревьям, не удавалось через нее пробраться. Сделать это я пыталась из чисто спортивного интереса. Со стороны соседей слева, если стать лицом к калитке, изгородь состояла в основном из вечнозеленых вьющихся роз, пущенных по проволочным опорам (когда и кем - неизвестно), и, благодаря их колючести, тоже была непроходимой, несмотря на внешнюю прозрачность. Этот двор обычно пустовал. Не потому, что там никто не жил. Просто этот участок представлял собой вытянутый узкий аппендикс, который заканчивался тупиком, а крыльцо выходило на другую сторону, и его вообще не было видно с нашего двора. Использовать это неудобье было довольно затруднительно, и соседи, очевидно, решили не морочить с ним голову. А значит, и ходить туда было незачем.
Со стороны соседей справа тоже были кусты, но пробраться через них не составляло никакого труда, эффект от них был чисто декоративный. Кусты были посажены двумя рядами под прямым углом друг к другу, в соответствии с формой дома. После дождей под ними росли маленькие красные грибочки. Считалось, что это моховики, но, поскольку никто в этом не был уверен, их никогда не собирали и не ели (разве что понарошку). Участок соседей с этой стороны представлял собой поросшую травой квадратную лужайку, посреди которой росла пальма, а
рядом с ней – две сливы. Там же были натянуты бельевые веревки. Крыльцо этой квартиры выходило прямо на тропинку, ведущую к домам, расположенным в глубине квартала.
Лазить на этот участок нам, детям, строжайше запрещалось. Там жил Сережка Гусаков – запойный алкоголик, вместе со своей матерью и большим количеством кошек, которых он обожал. Однажды он в припадке белой горячки средь бела дня забежал в беседку, в которой наш дедушка смотрел телевизор, и запустил булыжником в экран. В экран он, к счастью, не попал, но от телевизора отлетела какая-то деталь. Мой отец, оказавшийся в это время рядом, дал ему по морде и изгнал, таким образом, с нашего двора. При этом он повредил себе сустав большого пальца. Видать, твердая морда была у Сережки Гусакова.
Интересно, что синие сливы Сережки Гусакова были для меня вечным соблазном. По-моему, это наглядная иллюстрация того, что запретный плод всегда сладок. Ведь от недостатка фруктов я не страдала. В Сочи мы покупали сливы и персики, а в Мелитополе к моим услугам был сад
деда со стороны отца, а уж там было все, что только растет в наших широтах. Тем не менее, эти сливы в синей пыльце манили и звали, и пару раз я все-таки не удержалась. Никаких фатальных последствий это не имело, но сливы, как и следовало ожидать, оказались так себе, к тому же большей частью червивые. Но все равно их родственницы, оставшиеся на ветках, продолжали дразнить по-прежнему.
И вот в чем парадокс. Этот дом с его нелепым расположением комнат, почти полным отсутствием удобств, вечным запахом сырости и прелых листьев и крошечным участком с корявым асфальтом, перепаханным дубовыми корнями, казался мне земным раем. Жить в нем постоянно казалось мне таким недостижимым счастьем, что я не смела о нем и мечтать. Двоюродные брат и сестра казались мне избранными, ведь они все время жили в этом раю. Отчасти такое мое отношение, конечно, объясняется тем, что между ребенком и бытовыми трудностями всегда стоят взрослые. Это ведь им приходится бегать за водой к крану во дворе и готовить на кухне, в которой негде повернуться. Отчасти – тем, что этот дом был частью большого, яркого, почти сказочного мира, в который я попадала, ступив на перрон сочинского вокзала. А отчасти – тем, что дети вообще любят и с удовольствием сами строят всякие шалаши, халабуды и прочие дома
понарошку, а в этом доме как раз и было что-то не совсем настоящее, а потому милое детскому сердцу. Ну разве бывают в настоящих домах комнаты с окнами внутрь? Не говоря уже о беседках – маленьких, почти игрушечных домиках. Этот дом уже одним фактом своего существования расшатывал устои и расширял границы существующей реальности. Попробую объяснить поподробней.
Уже пяти-шести годам любой нормальный ребенок умеет отличать сказку от действительности, то, что “бывает”, от того, чего “не бывает”. Именно поэтому многие дети самостоятельно приходят к тому, что Деда-Мороза не существует, хотя их родители искренне хотели бы продлить это детское заблуждение.
Причина, по-моему, кроется в обычной логической индукции. Раз в моем опыте этого нет – значит, скорее всего, этого нет вообще. Дети не встречают в жизни ничего такого, что можно было бы объяснить вмешательством каких-то сверхъестественных сил и никак иначе. Отсюда следует вывод: сказка – это одно, а действительность – другое, и они нигде не смешиваются. Привычная действительность и является эталоном нормального для нормального человека. Вообще, мне кажется, что понятие нормы, нормального, привычного, общепринятого,
comme il faut, является для человеческой психики определяющим. Именно от него мы отталкиваемся в наших суждениях и поступках, а не от абстрактных понятий добра и зла. Многие живут долго и счастливо, вообще не засоряя себе мозги подобными высокими материями. Но нет человека, который так или иначе не ориентировался бы на общепринятую норму.
Так вот, мое понятие нормы было расшатано еще на заре своего формирования.
Скажем, такая простая вещь, как дом. Как должен был представлять себе дом ребенок, росший в мелитопольском частном секторе? Во-первых, дом с участком в шесть соток прямоугольной формы окружен забором из штакетника. Чужие здесь не ходят. Соседи и прочие посторонние находятся по ту сторону забора. Во-вторых, где-нибудь неподалеку от калитки есть будка со сторожевой собакой. В-третьих, рядом с домом, в пределах штакетника, есть двор, сад и огород. Площадь используется с максимальной пользой. Бесполезные растения вроде дубов там не растут, а то, что не удается съесть самим, можно продать на базаре.
А теперь представьте, что вы попали в мир наоборот, где нормальное и привычное таковым уже не является. Здесь бывают окна, выходящие не наружу, а внутрь, и деревья, растущие прямо перед крыльцом, – в Мелитополе бы такого не допустили. Так просто не бывает. Раз дерево мешает, его нужно спилить. Тем более такое бесполезное, как дуб.
А тут весь квартал – и не только этот квартал – был конгломератом разнокалиберных домов, одноэтажных и двухэтажных, наполовину одноэтажных и наполовину двухэтажных, деревянных и кирпичных, полудеревянных-полукирпичных, всевозможных форм, размеров и конфигураций, окруженных пристройками и пристроечками, с кое-как прилепленными к стене наружными лестницами в случае наличия второго этажа. Дома были построены так близко друг к другу, что понятие “двор” существовало лишь теоретически, как некая универсалия. Ни о каких разграниченных участках, тем более о шести сотках, и речи не было. Равно как о заборах и сторожевых собаках. Передвижение между домами осуществлялось по тропинкам. Идя по такой тропинке, вы вдруг оказывались возле какого-то крыльца, и понимали, что находитесь на чьем-то дворе, состоящем из водопроводного крана, пальмы и куста гортензии (к примеру). И что ваше присутствие здесь никого не радует. Вот так, не имея на то ни малейшего желания, можно было вторгнуться в чью-то частную жизнь. И вообще непонятно было, где здесь чье
и что кому принадлежит.
Судя по всему, застройку эту в свое время никто не планировал. Поэтому логично было предположить, что строилось все это еще до революции или, может быть, в первые годы после нее, когда Советская власть в этих краях была еще слаба. В противном случае она не потерпела бы подобного безобразия, от которого недалеко и до свободомыслия. Конечно, я прекрасно знала, что дети, живущие постоянно в этом не совсем, как мне казалось, реальном месте, ходят в такую же советскую школу, как я в Мелитополе, учатся по той же программе (минус украинский язык), и к ним так же лезут в печёнки с пионерской и комсомольской работой. Но в это трудно было поверить. Одно с другим как-то не вязалось.
Здесь все было не так. Здесь был другой воздух. Что-то такое в нем носилось. И это “что-то” нравилось мне до одурения, хотя я и не смогла бы сформулировать, что же это такое.
***
День начинается с утра. А мое утро в Сочи в те незабвенные времена начиналось с запаха кофе и шума на улице. Родители уже встали и давным-давно во дворе. Входная дверь раскрыта настежь, – закрывалась она только на ночь, - но из темной комнаты, в которой я сплю под окном, закрытым ставнями “гармошкой”, ее не видно. Зато слышно все прекрасно. Веселые утренние голоса. Звяканье посуды – это готовят завтрак. Шум машин на улице Орджоникидзе, который сливается в своеобразный звук, средний между воем и гудением, и не затихает ни днем, ни ночью. Только днем он интенсивней. Впрочем, мне он никогда не мешал, хотя, возможно, взрослые относились к этому иначе. И – упоительный аромат кофе. Мама и ее сестры любят кофе. Я кофе не люблю, но люблю его запах. И все это – кофе, звук проносящихся на большой скорости машин, неразборчивый разговор во дворе, - придает мне такой заряд бодрости, что я сразу же вскакиваю, быстро одеваюсь и бегу к крану умываться. Надо же, я тут лежу, а там, оказывается, уже вовсю кипит жизнь. К тому же я прекрасно знаю, что сразу после завтрака мы идем на море.
На крыльце я окунаюсь в звук, специфический сочинский звук, вернее, звуковой фон, потому что обычно его не замечаешь. Но, выходя утром из дома, куда он не проникает, слышишь очень отчетливо. Это – звон, стрекотание и гудение тысяч цикад и древесных лягушек. Их не видно, но они всюду – во влажных зарослях по краям двора и в огромных кронах дубов. Этот мощный хор примешивается к шуму машин, и говорит мне о том, что мир прекрасен, что все в нем идет, как надо, и что сегодня опять будет чудесный день.
Завтрак уже на столе, и мне, как обычно, говорят, чтобы я не копалась, а то попадем на пляж в самую жару. Завтрак в Сочи – это тоже не то, что завтрак в Мелитополе. В Сочи – страшно сказать! – продаются сосиски, сыр и кофейное молоко. Мелитопольские мясокомбинат и молокозавод такую продукцию не выпускают, поэтому для меня это блюда экзотические. Еще в Сочи бывают торты-мороженое – тоже неописуемая роскошь и экзотика. Но с мороженым у меня напряженные отношения из-за склонности к простудным заболеваниям, да на завтрак его и не бывает.
После завтрака – быстро надевать купальник, собирать пляжные вещи – и вперед, на пляж.
На пляж мы редко ходим одни, обычно - целой компанией с кем-то из родственников. Выходим через зеленую металлическую калитку, огибаем Дом быта, который расположен как раз между нашим двором и тротуаром улицы Орджоникидзе, и состоит из нескольких отдельных киосков под одной широкой крышей-навесом, укрепленной на столбах. Пространство под крышей вымощено кремовой плиткой в полоску. Там можно гулять во время дождя, и всегда чувствуется какой-то особенный, чуть слышный сладковатый запах, похожий на запах нового картонного ящика.
От нашего дома до моря всего десять минут ходьбы. Движение на Орджоникидзе одностороннее – справа налево, и очень интенсивное. Поэтому перейти улицу непросто, и если бы не светофоры, которые делят и уплотняют поток машин, задача вообще была бы трудноразрешимой. Когда в потоке машин образуется дыра, и мы начинаем идти через проезжую часть, справа, стремительно увеличиваясь, уже несутся, как метеорный поток, новые, и оказываются в опасной близости от нас,
как только мы ступаем на противоположный тротуар.
С обеих сторон улицы растут огромные платаны. Листья и пласты коры начинают опадать с них уже в июле. Их регулярно подметают, но с деревьев опять валятся целые груды. Мне очень нравится шаркать ногами по щиколотку во все этом мусоре, но мне запрещают пылить.
Еще одна вещь, которая мне ужасно нравится – тротуар, выложенный серыми и розовыми плитками. Розовые образуют простой узор на фоне серых. В Сочи так вымощены многие улицы в приморской части, а в Мелитополе ничего подобного нет (он вообще небогат декораторскими ухищрениями), и меня эти тротуары неизменно восхищают. Но и это еще не все. Если пройтись по Орджоникидзе после наступления темноты, обнаружится еще один сюрприз. От столба к столбу, через улицу, протянуты гирлянды красных лампочек. Днем они теряются в листве платанов, и их практически не видно. А ночью эти гирлянды загораются одна за другой, начиная с дальнего конца улицы, и образуют анфиладу горящих арок. Иллюминация простая, но эффектная. Особенно красиво она смотрится на фоне подсвеченной фонарями изумрудной зелени платанов. Потом лампочки гаснут, а через несколько секунд все начинается сначала. Но сейчас утро, лампочки не горят, и мы идем на море.
На противоположном тротуаре перед нами открываются две возможности: пройти напрямик через двор медучилища или обойти медучилище справа по улице, названия которой я не помню.
Медучилище – это бывшая школа, в которой учились мама и ее сестры. Солидное здание, облицованное белым камнем, возможно, еще дореволюционной постройки. То есть я так думаю потому, что на “сталинский ампир” оно не похоже, а на прочие советские стили – и того меньше. Хотя, кто знает, из любого правила возможны исключения. Двор медучилища огорожен железобетонной оградой, снизу сплошной
, а сверху – с ажурным узором в виде рыбьей чешуи. Он продолжал называться “школьным двором”, и довольно часто я ходила туда повисеть на брусьях и просто поиграть. У самого входа во двор рос высокий кипарис, под которым валялись круглые растрескавшиеся шишечки, а по всему двору, тут и там, - дубы с мощными корнями, такие же, как в нашем дворе. Но главной достопримечательностью был огромный инжир в дальнем углу, с корявым стволом и узловатыми корнями. Шириной он был в несколько обхватов. Даже не представляю, сколько ему могло быть лет. Но не удивилась бы, если бы оказалось, что пятьсот.
Как-то раз, возвращаясь с моря через медучилище, я заметила странную вещь: в проеме чердачного окошка, сделанного в виде мансарды, была натянута веревка, на которой сушились плавки и полотенца. Зрелище вполне обычное для курортного города, но уж в очень неожиданном месте. Не знаю, кому пришла в голову гениальная идея сдать отдыхающим чердак медучилища, но, очевидно, это делалось не без ведома администрации. А что? Пять минут ходьбы от моря. Тишина и покой пустого здания. Желающие найдутся. Лезть только высоко (в здании было, по-моему, четыре высоких этажа), но физические нагрузки полезны для здоровья.
Это не было исключением. Долгое время мне не давал покоя свет, зажигавшийся каждый вечер на чердаке двухэтажного дома, который был виден с нашего двора. Слухового окна там не было, во всяком случае, со стороны, доступной для моего наблюдения, и свет я видела сквозь щели досок. Это не могло быть чьей-то квартирой даже с поправкой на то, что в этом районе попадались самые невероятные курятники. Даже в мягком сочинском климате жить зимой на таком чердаке невозможно. А свет, тем не менее, горел. Следовательно, кто-то приспособил под сдачу отдыхающим чердак, на этот раз – жилого дома.
Проходя через двор медучилища, мы срезали угол. Но в этом была и отрицательная сторона: в дальнем конце двора, возле прохода, через который мы снова выходили на улицу, стояли мусорные контейнеры и воняли мусором и хлоркой, которой было присыпано пространство вокруг них. Поэтому иногда, чтобы спастись от вони, мы ходили по улице, между чешуйчатой оградой медучилища с одной стороны и рядом олеандров с другой. Они отделяли тротуар от проезжей части и были сплошь усыпаны пахучими красными, розовыми и белыми цветами. Цветы выглядели очень соблазнительно. Поэтому, из соображений безопасности, мама очень рано внушила мне, что олеандр – ядовитое растение, и, если его рвешь, то потом нужно мыть руки. Она даже рассказывала легенду о наполеоновских солдатах, которые отравились олеандром в Италии, потому что помешивали веточками этого растения еду, которую варили на костре. Не знаю, есть ли правда в истории про наполеоновских солдат, но своей педагогической цели мама полностью достигла - вывод о ядовитости олеандра был сделан мною раз и навсегда.
По другую сторону улицы тянулись клумбы с красными каннами, а за ними - корпус гостиницы “Приморская” с длинными балконами. Эта гостиница не считалась особенно шикарной, в отличие, например, от “Жемчужины”. Новой она тоже не была. На старой фотографии, изображающей мамин класс в открытой машине на первомайской демонстрации, она выглядит точно такой, какой я знала ее в своем детстве. С одной поправкой – во времена моего детства на ней уже не висел огромный портрет Сталина.
Меня в “Приморской” больше всего интересовало маленькое открытое кафе в уголке между двумя корпусами, где мы часто покупали пирожные. В этом смысле Сочи тоже отличался в лучшую сторону: в Мелитополе продавались одни заварные с противной сахарной глазурью сверху и еще более противным масляным кремом внутри. Впрочем, возможно, что ассортимент мелитопольских кондитерских изделий был на самом деле шире, но в моей памяти это почему-то не отложилось. А тут - настоящее изобилие. Во-первых, мои любимые миндальные пирожные.
Крема на них не было вообще, и само пирожное больше было похоже на коржик, но их я любила больше всего. А еще были бисквитные с грибочками сверху, коричневые “картошки”, безе, буше, трубочки! А как вкусно пахло в этой маленькой кафешке! Изумительный кондитерский запах был слышен даже возле мусорных контейнеров во дворе медучилища, где он не без успеха соперничал с запахом мусора и хлорки. А упоительный аромат кофе! А разноцветные соки в стеклянных кувшинах! Ладно, хватит. Не будем ворошить прошлое.
Недалеко от кафешки, на другой стороне улицы, находится странный, удивительный и таинственный объект. Это была “Березка”, магазин для иностранцев, единственная “Березка”, виденная мною в жизни. Магазин был небольшой, в виде параллелепипеда из стекла и металла, с
окнами во всю стену. Я знала, что заходить туда нельзя. Рассмотреть, что там делается, тоже нельзя, потому что окна с внутренней стороны завешаны жалюзи. Но мне было известно, что там продаются очень хорошие, замечательные вещи, которые больше нигде не продаются. Иногда, проходя мимо, я видела, как туда заходят люди. Очевидно, это и были таинственные иностранцы. Странно, но с виду они мало чем отличались от нас. Ничего особенного в них как будто не было. Вот тут, казалось бы, мне и озаботиться тем, что вот им можно, а мне нельзя, и почему, собственно, нельзя? Но никакого чувства ущемленности по этому поводу я не помню. Думаю, его и не было. Во-первых, я знала, что там все продается за валюту, а у нас ее нет. И это все объясняло. Ну нет – и нет. Мало ли у кого чего нет. А во-вторых, я просто воспринимала это как данность. Для ребенка в мире существует много вещей, которые “нельзя”, и много непонятного, которое он просто принимает на веру. А в-третьих, вокруг и без загадочной “Березки” было много красивого и интересного. Тем не менее, ощущение таинственности, исходящее от этой “Березки”, интриговало. Как сказал бы в данном случае Буратино, “Здесь какая-то тайна!”
Пройдя мимо “Березки”, мы пересекали довольно обширную площадку, вымощенную моими любимыми цветными плитками. Посреди площадки из квадратного отверстия в плитках росла магнолия с блестящими кожистыми листьями и чудесными, как будто искусственными, большими белыми цветами высоко-высоко. Многие дети собирали опавшие листья, скалывали их спичками, и получали в результате нечто вроде индейского головного убора. Но мои родители эту затею не поощряли. Им не нравилась идея напяливать на голову то, что валялось на земле.
Площадка заканчивалась парапетом лестницы. Дальше рельеф местности плавно понижался к морю, и на склоне был расположен Приморский парк. Нам нужно было пройти через него и выйти на набережную. Вниз мы спускались по лестнице с двумя полукруглыми ответвлениями, которые соединялись вместе на следующей площадке. Но еще раньше, на вымощенном цветными плитками пространстве между “Березкой” и лестницей, меня подстерегала оптическая иллюзия.
Оттуда уже было видно море. По мере приближения к парапету лестницы видимый кусок моря рос и постепенно превращался в синий занавес, который, как и любой нормальный занавес, висел вертикально. Поэтому я видела море, вставшее дыбом, и не могла понять, почему оно не низвергается с высоты и не заливает берег и нас вместе с ним. Причем, чем интенсивней была синева моря (а это зависело от погоды), тем полнее была иллюзия
. В пасмурную погоду, когда море скорее серо-зеленое, чем синее, глубина зрительного восприятия у меня не исчезала, и я воспринимала его как горизонтальную плоскость, а не вертикальную. Правда, каждый раз, когда мы спускались вниз, оказывалось, что все в порядке, море на своем обычном месте, и мировой катастрофы не предвидится.
Дальше мы шли вниз по лестнице, перегнувшись через парапет которой, можно было достать до веток персиковых деревьев, росших внизу. Отчего эти несчастные ветки всегда были ободранные и поломанные. Что делать, любит наш народ бесплатные персики, а природу не любит. Спустившись до конца и миновав последнюю бетонную тумбу парапета, на которой армяне обычно продавали вареную кукурузу, мы проходили мимо прекрасной стены из известняка сухой кладки, а прекрасно в ней было то, что на ней всегда сидели и грелись зеленые ящерицы. Потом эту чудесную стену забетонировали, и ящерицы исчезли.
Вправо и влево расходились парковые аллеи. Но нам нужно было не туда, а вниз, по пологому спуску с длинной узкой клумбой посередине. Кроме цветов, на ней росли веерные пальмы через равные промежутки, а в конце спуска была круглая клумба с огромной пальмой, на сей раз невеерной, с длинными перистыми листьями. От нее опять в разные стороны расходились аллеи, и, поскольку до моря было уже недалеко, на газонах часто можно было увидеть расстеленные подстилки, а на них непосредственных, как гамадриллы, советских отдыхающих. Ну не любит он лежать на гальке, она твердая. А любит он лежать на травке. Вот понравилось ему это место, он и разлегся. И вообще, нас триста миллионов, всех не перевешаете.
Потом снова лестница, очень похожая на предыдущую, только с огромными бетонными шарами на углах парапета, и вот мы уже на набережной. Уже в начале второй лестницы хорошо слышен шум моря, крики чаек, объявления по радио и особый пляжный гул. И особый пляжный запах нагретого бетона, нагретой гальки и соленой морской воды. Берег разбит бунами на отдельные пляжи. Пляжи отделены от набережной высокими бетонными парапетами. Кое-где есть лесенки, по которым можно перебраться через парапет на пляж, но на некоторых пляжах их нет. Зато в углах пляжей, между буной и парапетом, благодаря усилиям зимних штормов образуются высокие, до самого верха, кучи крупной гальки, так что перелезть не составляет труда.
В разное время мои родители предпочитали разные пляжи. Принцип, по которому они отдавали им свое предпочтение, был мне непонятен. Сама я предпочитала так называемый детский пляж, потому что там было два массива-волнореза, один далеко, и мне до него было не добраться, а другой близко, в пределах моей досягаемости. Но туда мы ходили очень редко. Родители объясняли это тем, что не желают купаться в моче (и в чем-то были правы). Интересно, однако, что все любимые пляжи моих родителей располагались налево от лестницы, ведущей на набережную, хотя справа были точно такие же.
Когда мы идем по набережной к пляжу, который родители предпочитают в данный момент, слева, на склоне, видны поднимающиеся ярусами вверх аллеи Приморского парка. На самой нижней аллее видна “Сосисочная” - открытая забегаловка под бетонной крышей, загнутой вверх, отчего она напоминает недостроенную – одноярусную - китайскую пагоду. Расположена она так удачно, что видна со всех сторон на большом протяжении берега и является обязательным элементом моих пляжных воспоминаний. Возле этой “Сосисочной”, как, впрочем, и во многих других местах, росли огромные, в человеческий рост, кусты пампасской травы с тонкими, длинными и очень острыми листьями. Порезаться ими ничего не стоило. После пары опытов с пампасской травой я хорошо это усвоила и предпочитала до нее не дотрагиваться.
На пляже можно было брать напрокат зонтики, шезлонги и деревянные топчаны. Правда, мы их никогда не брали. Приносили с собой подстилку. Не знаю, было ли это из экономии или родители просто не считали нужным, а скорей всего, считали негигиеничным. К этому, пожалуй, были основания. На набережной, под подпорной стеной, был еще стационарный ряд высоких деревянных топчанов, а над ним - пергола, заплетенная вьющимися розами
. Судя по заполненности мест, этот вид услуг пользовался большой популярностью. Но туда мы тоже никогда не ходили, о чем теперь совершенно не жалею.
Вместо этого мы перелезали через парапет, проходили извилистый лабиринт между чужими подстилками, старались найти свободное местечко как можно ближе к воде и расстилали свою подстилку – всегда одной и той же стороной вверх. Чем позже мы приходили на пляж, тем труднее было найти свободное место.
Как только мы оказываемся на пляже, мне, ясное дело, сразу же хочется в воду. Видеть ее и не бежать к ней почти невыносимо. Но этого мне не разрешают, говоря, что сначала нужно “остыть”. Что это значит, я толком не понимаю и ненавижу это слово.
А пока я “остываю”, идут купаться родители. Когда я была маленькая, и родители, уходя купаться, оставляли меня на кого-то из родственников, я тут же начинала реветь, наблюдая, как две темные головы удаляются в сторону массива. Массив – это волнорез, он далеко-далеко, там, где заканчивается буна. Люди, которые уже туда доплыли и стоят на нем, кажутся совсем маленькими. Взрослому человеку, как, например, мне сейчас, трудно понять переживания ребенка. Без родителей я чувствовала себя совершенно беззащитной. Взрослые, оставшиеся со мной, были не в счет. Мне казалось, что мама и папа никогда не приплывут обратно. Время как бы застывало на самой неприятной точке, и не было никакого “потом”. А раз его не было, то все разговоры о том, что папа с мамой скоро вернутся, были заведомо бессмысленными. Пока я могла различить головы родителей среди других голов, я чувствовала себя более-менее сносно. Но когда переставала различать, или они, доплыв до массива, там не останавливались, а плыли куда-нибудь на другой пляж, я впадала в истерику. Тем, кто со мной оставался, нельзя было позавидовать.
С возрастом это, конечно, прошло. Пока родители плавали, мне было просто скучно, потому что лезть в воду, пока их нет, было категорически запрещено. Приходилось искать другие развлечения. Например, рыться в мелкой влажной гальке у самой воды и искать там красивые камешки и обточенные морем стеклышки - белые, голубые и зеленые. Можно просто смотреть на море. В те времена дешевого горючего по морю так и сновали прогулочные катера и кометы. А если повезет, можно увидеть, как идет в порт или, наоборот, из порта, большой теплоход. При этом он разворачивается под разными углами, и я вижу его в самых разных ракурсах, иногда – в сильном сокращении, так что в высоту он кажется намного больше, чем в длину, как иногда рисуют в детских книжках – очевидно, для того, чтобы создать у детей неверное представление о кораблях.
Порт был не очень далеко, справа, если стоять лицом к морю. Чтобы узнать, стоит там сейчас какой-нибудь большой теплоход или нет, нужно было просто залезть на парапет пляжа или на буну. Тогда были видны трубы, а если есть трубы, значит, есть и теплоход. Теплоходов было много. Они курсировали вдоль Черноморского побережья и время от времени возвращались. Лучше всего я знала “Адмирала Нахимова”, который потом затонул со страшным количеством жертв, тем более страшным, что это случилось не зимой в Северной Атлантике, а в августе в Черном море.
“Нахимова” легко было узнать, потому что только у него были две прямые трубы. У других теплоходов труб было одна или две, но – косых. Это потому, что “Нахимов” был старый немецкий теплоход, взятый в счет репараций. Такие уже давно не строили. Но, подтверждая расхожее мнение о немецком качестве, он все еще плавал.
Время, пока родители купаются, тянется очень медленно. Можно успеть и полюбоваться морем, и выстроить какое-нибудь сооружение из плоской гальки, и сходить на буну. Правда, одной туда ходить не разрешается, приходится просить сходить со мной кого-нибудь из взрослых. Буна – длинная. Идешь, идешь и идешь. Сначала она ровная, потом плавно понижается, потом опять становится ровной, и так и идет до самого конца. Внизу сначала тянется галечный пляж, потом – вода. Там, где уже глубоко и вода сине-зеленая, стоят рыбаки с удочками. Однажды один дядька на моих глазах вытащил из моря какую-то большую шипастую рыбу, похожую (в моем понимании) на ерша. Но, кроме этого случая, никакой приличной добычи у рыбаков на бунах я не припомню. Впрочем, меня это не очень интересовало. Меня интересовало зайти как можно дальше в море. Плавать я научилась поздно, лет в 15 – 16, а до этого могла только с завистью смотреть на тех, кто доплывает до массива. Поэтому, раз уж я не могу доплыть до массива, то надо до него хотя бы дойти. Самый конец буны, мокрый даже при небольшом волнении, весь оброс скользкими водорослями. Тут надо двигаться очень осторожно. Некоторые ныряльщики прыгают с буны в воду. Я знаю, что, если прыгнуть с самого конца, можно удариться о массив и утонуть. Но в глубине души я уверена, что для того, чтобы утонуть, удар о массив необязателен. Вот если я прыгну или просто поскользнусь и свалюсь в воду, то утону сразу. Я осторожно подхожу к краю и смотрю на сине-зеленую, густую на вид, воду внизу. По коже начинают бегать мурашки, и прогулка по буне приобретает от этого особую прелесть.
На массиве стоит много народу. Воды там примерно по колено. Еще дальше, за массивом, плавает красный буек – дальше заплывать нельзя.
С буны открывается потрясающий вид на Приморский парк. Он весь как на блюдечке. Сверху его венчает гостиница Приморская с круглым зданием ресторана на углу. Еще левее – высокая многоэтажная гостиница “Ленинград” с корабликом из неоновых трубок на крыше. А еще дальше, недалеко от порта – маяк высоко на склоне, который укреплен ярусами подпорных стен, покрытых цветущими олеандрами, и, наконец, порт. В порту два длинных пирса, а на них еще два маленьких маячка - один горит красным, другой зеленым. Но видно это только вечером.
Рассмотрев как следует все это великолепие, можно пускаться в обратный путь. А тут и родители выходят из воды, и на вопрос, можно ли мне купаться, наконец-то получен положительный ответ. Бегом в воду!
После жары на пляже вода кажется холодной, но это быстро проходит. Потом привыкаешь и спокойно наслаждаешься ее упругостью и мягким покачиванием волн. Я ныряю, кувыркаюсь, задерживаю дыхание и лежу на воде, позволяя волнам качать и швырять меня как угодно, пока хватит воздуха. Вода меня держит. Ощущение нереальное – висишь, ничем не касаясь земли и не напрягая ни единой мышцы. Разве где-нибудь, кроме моря, возможно такое? Научиться плавать было моей мечтой в
течение многих лет. Хотелось быть не хуже других, ведь все мои родственники, за исключением совсем уж малявок, плавать умели. Одна из моих теток работала тренером по плаванию в детской спортивной школе. Она пыталась научить меня, но ей, очевидно, не очень-то хотелось заниматься летом тем, чем она и так занималась весь год. Да и подходила она к делу чересчур научно. По ее словам, нужно было сначала научиться лежать на воде, потом как-то там по-особенному дышать. А мне не нужно было научиться плавать как мастер спорта, мне нужно было просто научиться. В общем, дальше лежания на воде наши занятия не пошли, и плавать, в конце концов, я научилась сама, хотя, понятное дело, особого стиля не выработала. Это был триумф. И надо сказать, что научилась очень своевременно. В Мелитополе, где не было и нет ни одного плавательного бассейна, а также ни одного приличного естественного водоема (речка Молочная не в счет), мое неумение плавать никого не смущало, да и вопрос как-то не стоял. А вот после поступления в университет пришлось сдавать нормативы по физкультуре, и всем, кто плавать не умел, пришлось ходить в бассейн и учиться в свое свободное время. Но вот что интересно. После того, как я научилась плавать, я не получала уже такого удовольствия от купания, просто от самой воды. Меня стало интересовать, сколько я смогу проплыть, а детский восторг оттого, что вот она, вода, и я – в ней, так и не вернулся. Наверно, я просто выросла.
Если зайти в воду по шею, а еще лучше – заплыть подальше, можно увидеть берег с новой и неожиданной точки обзора. Последний по времени любимый пляж моих родителей находился недалеко от гостиницы “Жемчужина”. Над этим участком набережной был довольно крутой склон, укрепленный опорной стенкой. На нем рос огромный серебристый тополь, раскинувший свои
светло-серые ветки чуть ли не на всю ширину пляжа. Склон у его подножия был усеян желтыми, белыми и голубыми цветами, а за ним темнела густая зелень Приморского парка. Листва тополя, зеленая с лицевой стороны и серебристая с изнанки, реяла в ослепительно голубом небе. Небо – голубое, листья – зеленые, вода вокруг меня темная, не синяя и не зеленая, а какого-то неопределенного цвета, или, вернее, всех цветов сразу. Сзади, если оглянуться – сверкающее под солнцем море до самого горизонта. Над пляжем стоит радостный гул сотен голосов. Волны толкают в спину и слегка покачивают. Вот это и есть счастье в самом чистом, дистиллированном, виде.
Конечно, бывали и такие дни, когда на море было волнение. В сильный шторм я не купалась, да и взрослые, наверно, тоже. Но, если волнение было не очень большое, мы все равно ходили на пляж. В воду мне тогда разрешалось заходить только с мамой, - пока была маленькая, разумеется.
Моя мать выросла в Сочи и отлично понимала, что с морем шутки плохи. Входя со мной в воду, она крепко держала меня за руку. Тем не менее, однажды - мне было лет пять - я чуть не утонула. Волна просто выбила меня из ее рук. Глаза у меня были открыты, но я не видела ничего, кроме белой пены. Меня закрутило, как в баке стиральной машины. Место было, конечно, мелкое, но дна я не коснулась ни разу. Почувствовать удушье я не успела, наверное, вдохнула как раз перед этим. Испугаться – тоже. Все произошло очень быстро. Помню совершенно ясную и четкую мысль – всё, конец. Сейчас меня утащит на глубину. Но в этот момент чья-то рука поймала меня за ногу в этом водовороте и вытащила из воды. Это была мама. Представляю, как она испугалась.
Перед штормом у берега появлялось множество медуз. Дети, и я в том числе, их с удовольствием ловили. Очень интересно – студенистый прозрачный купол с щупальцами. В Черном море попадаются и ядовитые медузы со жгучими щупальцами, но мне такая не попалась ни разу.
Кое-где в расщелинах и углублениях бун водились маленькие темно-зеленые крабы с глазами на стебельках. Помню, как мы с двоюродным братом пытались их ловить. Но не помню, увенчалась ли хоть одна наша охота успехом. Крабы были не дураки и не высовывались из своих щелей. А массив и буны на глубине были сплошь обросшими гроздьями больших черных мидий. Есть их было как-то не принято. Не то, чтобы их совсем не ели, но это было мало распространено. Сейчас, когда я вижу в продаже крошечные баночки мидий за бешеные деньги, вспоминаю об этом и удивляюсь тому, как за каких-то два десятка лет изменились нравы. А уж употреблять в пищу рапанов вообще никому в голову не приходило. Их раковины использовались в качестве сувениров, но есть их никто не ел.
Купаться мне в детстве разрешалось 10 минут, хотя иногда, вероятно, от этого правила отступали. Но все равно наставал горький момент, когда меня выуживали на берег. “Выходи, у тебя уже губы синие!” На берегу сразу становится холодно, и я кутаюсь в полотенце, вдыхая его горячий пляжный запах. Тем временем родители опять идут купаться. А я пытаюсь поудобнее устроиться на подстилке. Камни под подстилкой округлые, обточенные морем, но все равно давят во все места. В этом неудобство галечного берега. Зато не приходится потом полчаса отряхиваться от песка и все равно приносить его с собой в дом.
Обычно за один поход на море я купалась раза три. Уходили мы с пляжа часов в одиннадцать, и то жара уже стояла будь здоров. Моя тетка – та, что тренер по плаванию – все пыталась приучить нас к более жесткой дисциплине. Она говорила, что на пляж нужно приходить к восьми, а в десять уходить домой. И была совершенно
права. Я не верю в то, что валяться на пляже в самую жару полезно для здоровья. Загорать я вообще никогда не любила, да и загорала плохо. С моей кожей вообще невозможно загореть до коричневого цвета. А привычка некоторых людей оценивать поездку на море по интенсивности загара – “Что это ты белая, как сметана, не видно, что и на море была!” – всегда вызывала у меня глухое раздражение. И почему это то, что я была на море, должно быть "видно"? Я в Сочи ездила уж точно не за загаром. По мне, хоть бы его и совсем не было.
Но, несмотря на то, что правота моей тети никем не подвергалась сомнению, выйти на пляж к восьми нам если и удавалось, то очень редко. Утром всегда хочется поспать, потом то одно, то другое – завтрак, сборы, а до завтрака еще кто-то должен сходить в магазин… А время идет, идет… Так что чаще мы выползали на пляж только к началу десятого.
Уходя с пляжа, мы становились в очередь в металлическую раздевалку на набережной, переодевались и шли домой. В более раннем возрасте мама просто закрывала меня полотенцем, и я прямо на пляже стягивала мокрые трусы и одевала сухие. Первый купальник с лифчиком у меня появился в десятилетнем возрасте, в связи с первой в моей жизни поездкой в пионерский лагерь. В течение всего июня я ревела и писала домой душераздирающие письма, умоляя забрать меня оттуда. Как-то с коллективным отдыхом у меня сразу не заладилось. Результатом этой увлекательной поездки было чувство безмерной радости, когда она, наконец, кончилась, пропажа любимой махровой футболки с утенком спереди, которую у меня украли в самый последний день, и этот первый в моей жизни настоящий купальник “как у взрослых”. Собственно говоря, лифчик в описываемый период был мне еще совершенно не нужен. Помню, как однажды, после того, как я отказалась переодеваться старым способом с помощью полотенца, а в раздевалку стояла большая очередь, двоюродный брат с презрением посмотрел на этот самый лифчик и сказал: “Да сними ты эту муть!” Это было довольно точное определение моего первого лифчика, но я “эту муть” все-таки не сняла.
Идти вверх труднее, чем вниз. Уже жарко. Во всем теле приятная расслабленность, как всегда после пляжа, да и есть уже хочется. После моря всегда появляется аппетит. Все повторяется в обратном порядке: лестница, пологий подъём, снова лестница и, наконец, по ровному месту мимо “Березки” и через медучилище.
За Орджоникидзе возвышается гора со смешным названием "Батарейка". На ней находится сочинская телевышка. Гора густо заселена, но не менее густо заросла деревьями, и домов за ними не видно - за исключением одного. Дом этот стоял (и, наверное, продолжает стоять) высоко на склоне. Был он двухэтажный, оштукатуренный, но интересно было не это, а его уникальное топографическое положение, благодаря которому этот дом на склоне "Батарейки" всегда оказывался в поле зрения, куда бы мы ни направлялись. С пляжа и на пляж, в порт и из порта, в магазин, в предварительные кассы за билетами, на вокзал - пока была видна "Батарейка", был виден и этот дом - единственный на всей горе. Это интриговало, и мне очень хотелось там побывать, если не в самом доме, то хотя бы рядом с ним.
К родителям я с такой просьбой не обращалась, поскольку они были не склонны потакать моим фантазиям, в особенности тем, которые требуют затрат времени и сил. Необходимый мне случай не представлялся долго. Когда он представился, я была уже взрослым человеком. И тут оказалось, что эта детская фантазия неспроста так долго занимала мое воображение. Вид, который открывается с этого места, - лучший из всех, которые я когда-либо видела, и, вполне возможно, лучшего мне в этой жизни увидеть не удастся. Понятно, что, если дом виден с разных сторон и с большого расстояния, то и видно оттуда тоже должно быть на большое расстояние в разные стороны. Но действительность превзошла самые смелые мои ожидания. Я увидела линию берега на много километров в обе стороны, и впервые обнаружила, что она представляет собой цепь округлых бухт. Море оттуда выглядело просто огромным. Казалось, что еще чуть-чуть - и будет видна Турция. Такое можно увидеть только с высоты птичьего полета, но ведь, если разобраться, как раз с такой высоты я и смотрела.
***
Если погода была хорошая, то мы ходили на пляж и после обеда, часа в четыре. Но все равно у меня оставалась масса свободного времени, которую нужно было чем-то занять. А самым любимым моим занятием было чтение.
У моей тети Изольды была неплохая библиотека. Не то, чтобы большая, но с большим количеством популярной детской и недетской литературы. Тогда такое явление можно было объяснить только наличием блата в книжном магазине. Людям, родившимся в постсоветские времена, будет очень трудно понять образ жизни, при котором наличие денег отнюдь не гарантирует возможности купить те или иные товары. Деньги в Советском Союзе не были универсальным эквивалентом. Может быть, деньги и зло, как это часто говорят. Но лично я предпочитаю, чтобы было одно зло, видимое и конкретное, существование которого все открыто признают и не делают вид, что его нет. Жизнь тогда значительно упрощается. Есть деньги – покупаешь, нет денег – зубы на полку. Просто и ясно. При Советской власти деньги, разумеется, тоже были нужны, но, кроме денег, в огромном ряде случаев нужно было иметь еще и блат, поскольку спрос на многие товары значительно превышал предложение. При рыночной экономике в такой ситуации цены тут же взлетели бы вверх, в результате чего у многих просто пропало бы желание покупать, и соотношение между спросом и предложением было бы восстановлено. В Советском Союзе цены на товары были фиксированными. В частности, на задней обложке книги, в верхнем левом углу, была проставленная в типографии цена, по которой – и только по ней! – эта книга могла продаваться в советском книжном магазине. “Черного рынка” это, ясное дело, не касалось. Там книга могла продаваться по цене, в десять и более раз превышавшей ту, что стояла на обложке.
Обычный ассортимент советского книжного магазина состоял из: разных изданий классиков марксизма-ленинизма, от дешевеньких до роскошных - с суперобложками и на веленевой бумаге; материалов очередного съезда КПСС, пленума или партконференции; специальных научно-технических изданий, интересных лишь для специалистов; многочисленных опусов многочисленных членов Союза писателей СССР, строго выдержанных в канонах соцреализма и полностью соответствующих тем задачам, которые партия поставила перед советскими писателями на своем очередном съезде. При этом тупых и нудных до невозможности и, в силу этого, совершенно непригодных для чтения.
А потребитель между тем хотел читать детективы, фантастику, приключения, классику русскую и зарубежную. Спрос был, но никто не собирался его удовлетворять. Очевидно, в идеале советский человек должен был читать на сон грядущий труды Ленина, а ассортимент советских книжных магазинов, возможно, и был направлен на то, чтобы его к этому побудить. В Полном собрании сочинений В.И., по-моему, 56 томов, так что при экономном расходовании могло хватить на всю жизнь.
Не то, чтобы популярная литература в Советском Союзе совсем не издавалась. Нет, она издавалась, просто ее, как и многого другого, не хватало на всех. Очевидно, у моей тетушки была подружка в каком-то книжном, потому что у нее – вы только представьте! – у нее были, из детских книг: супердефицитные сказки Волкова, “Хоббит”, “Незнайка”, “Карлсон”, “Алиса в Стране чудес”, да и много чего еще, все я просто не упомню
. А когда на смену золотому детству пришел трудный подростковый возраст, я обнаружила там же “Записки о Шерлоке Холмсе”, толстенную книжку Лема, рассказы Эдгара По и многое другое. Одним словом, это был Клондайк.
Моими первыми и любимейшими книжками из тетушкиной библиотеки стали сказки Волкова и “Хоббит”. Можно без преувеличения сказать, что они составили целую эпоху в моей жизни. Из первых имелись в наличии “Волшебник Изумрудного города”, “Урфин Джюс и его деревянные солдаты”, “Семь подземных королей” и “Желтый туман” с прекрасными иллюстрациями Владимирского. Второй был представлен первым русским изданием 1976 года, в прекрасном переводе Рахмановой с прекрасными иллюстрациями Беломлинского. Я не случайно упоминаю об иллюстрациях. Для ребенка они значат, возможно, не меньше, чем сам текст. По крайней мере, я представляла себе персонажей Волкова именно так, как они были нарисованы в книгах, и даже сейчас мне трудно смириться с иллюстрациями других художников. Возможно, они и не хуже, но мне это уже не объяснишь. То же самое с иллюстрациями к “Хоббиту”. Для меня существует лишь один хоббит – нарисованный Беломлинским. Уже став взрослой, я поняла, что иллюстрации в “Хоббите” сделаны в технике гравюры – не самая, насколько я могу судить, типичная техника для книжных иллюстраций, и как подходит для этой книги! Драконов и гномов, нарисованных как-то иначе, мне тоже смело можно не показывать.
Я очень любила и сказки Волкова, и “Хоббита”, но “Хоббита” все же больше.

Мне самой это стало ясно лет в восемь. Открывая эту книгу, я испытывала совершенно особое чувство. Это была дверь в другой мир. Откроешь – и ты уже там. На второй странице была карта. Не авторская – потому что ведь существуют авторские карты и иллюстрации к “Хоббиту”, - а Беломлинского. Там рядом с загадочными, будившими воображение названиями – Дикий Край, Черный Лес,

Одинокая гора – были нарисованы маленькие, но очень настоящие елочки, такие же очень настоящие маленькие волки со свирепо оскаленными зубами, и дракон, из ноздрей которого били струи пара.
Почему именно эта книга стала моей самой любимой? Тогда я бы, конечно, не смогла это объяснить. Да и сейчас это непросто. Но окончательный вариант ответа такой – в ней чувствовалось огромное пространство. Кроме истории, рассказанной в “Хоббите”, на просторах этой карты могло происходить множество других историй. В этом мире было место и для меня. Как же можно было не воспользоваться приглашением?
Забавно, но сначала я думала, что Толкин – русский писатель. Ленин, Калинин, Толкин. Потом сообразила, что у русского писателя не может быть инициалов Дж.Р.Р.
Влияние этой книги на меня было настолько велико, что и теперь я иногда ловлю себя на том, что активно использую в своей речи типичные рахмановские синтаксические конструкции. Разумеется, я делаю это не преднамеренно. Впрочем, жаловаться не на что, потому что у Рахмановой в “Хоббите” прекрасный русский язык. Приятно сознавать, что уже в восьмилетнем возрасте у меня был хороший литературный вкус.
Одна из моих теток вспоминала такой случай. Как-то летом, в описываемый хронологический период, на Орджоникидзе собралось довольно много детей: я, сочинские двоюродные брат и сестра, да еще двоюродный брат из Москвы, да еще ее собственный сын, который был намного младше нас всех. Все дети играли вместе и были на виду
. Вдруг тетя обнаружила, что меня нигде не видно, и тут же сообщила об этом моей маме: “Таня, где Юля?

Все дети тут, а ее нет! Куда она делась? Давайте искать!” и т.д. и т.п. На это мама спокойно ответила, что Юля, конечно же, за беседкой, читает “Хоббита”. Пошли, посмотрели. Юля действительно сидела на скамейке за беседкой и действительно читала “Хоббита”. Интересно, что этой моей тетушке, с которой мы виделись раз в несколько лет, потому что ее и наши приезды в Сочи обычно не совпадали, я запомнилась именно так – с “Хоббитом” в руках.
Примерно в это же время один из родственников меня сфотографировал. Вообще, у меня довольно много детских фотографий. Но все это – парадные фотографии из фотоателье, на которых изображен тщательно одетый и причесанный ребенок, от которого долго добивались и добились-таки стандартной фотоулыбки взамен лживого обещания, что “сейчас вылетит птичка”. Отец мой фотографией не увлекался. Да и вообще, тогда это было делом весьма сложным, – до эпохи общедоступных “мыльниц” было еще далеко, любители проявляли и печатали фотографии сами, а далеко не каждому хотелось с этим возиться.

Но вот однажды прекрасным сочинским утром мой дядя, у которого был фотоаппарат, позвал меня фотографироваться. Родители еще спали. Поэтому на фотографиях я оказалась причесанной весьма приблизительно, и не в парадно-выходной одежде, а в любимых полосатых шортах (которые были на меня уже маловаты), и в любимой же белой махровой майке с утенком на животе (тогда ее еще не украли).

На ногах у меня были старые кроссовки двоюродного брата. Мне очень нравились кроссовки, но у меня их не было. В магазинах их купить было невозможно, тогда это было экзотикой и дефицитом, да и само слово “кроссовки” только начинало входить в речь. Поэтому в Сочи я, когда могла, таскала старые Алешины (ему кроссовки “доставали”).
Мы пошли к гостинице “Приморская” и сделали кучу фотографий: я под кустом олеандра, я под пальмой, я на каких-то живописных камнях, я на неизвестном хвойном дереве и т.д.
Сейчас это мои любимые фотографии, хотя они черно-белые и невысокого качества, и до современных кодаковских и прочих им далеко как до звезд. Но если другие свои детские изображения я всегда рассматриваю отстраненно, как фотографии другого человека, то, глядя на эти, я действительно вижу, что это – я. На голове у меня довольно спутанная шапка волос, а сама голова по самую макушку набита хоббитами, гномами и эльфами, хотя на фотографиях этого и не видно.

И Волкова, и Толкина я могла читать только в Сочи. В Мелитополе у меня этих книг не было, и я прекрасно понимала, что в магазине их не купишь. Правда, в Мелитополе у меня была другая любимая книжка, моя собственная, – “Мы все из Бюллербю” Астрид Линдгрен. Мама случайно купила ее в Запорожье, когда училась там заочно. У нас эта книжка мало известна и не столь популярна, как знаменитый “Карлсон”, но я до сих пор ее очень люблю. И вот что интересно. Все мои первые любимые книги были несоветские. Я имею в виду не только то, что Толкин и Линдгрен не советские писатели, а Волков позаимствовал сюжет “Волшебника Изумрудного города” из “Волшебника страны Оз” (тем более, что в детстве я этих животрепещущих подробностей не знала). Дело в содержании. У меня было множество других детских книг, в основном – советских авторов, благо тогда все это стоило копейки, а еще мама брала мне книги в библиотеке. Я читала все подряд, и практически все прочитанное мне нравилось, поскольку я была удивительно всеядна в этом отношении. Но мне и в голову не пришло бы поставить что-либо из этой массы рядом с “Хоббитом”, или с Волковым
, или еще с парой-тройкой любимых книжек (позже, конечно, появились и другие). Это просто было разное, такое же несравнимое, как красное и круглое. Я читала множество историй про пионеров, которые совершали разнообразные деяния, достойные пионеров, и знала, что мне положено брать с них пример. И, в общем-то, почему бы и нет, ничего плохого они не делали, а наоборот, все делали хорошо и правильно – отлично учились, собирали макулатуру и металлолом, участвовали в художественной самодеятельности и помогали старшим, которые, в свою очередь, учили их доброму и хорошему. И все же ни одна книжка из этой категории не нравилась мне по-настоящему. Мне нравился Толкин.
Конечно, в моих любимых книжках не было ничего антисоветского – иначе бы их просто не издали в Советском Союзе. Но и советского в них тоже ничего не было, вот в чем штука. Например, ни в одной из этих книг пролетариат (“бедные”) не боролся против буржуазии (“богатых”). Ни в одной из них не было ни пионеров, ни октябрят, ни комсомольцев, ни их “старших товарищей” – коммунистов, и – удивительно! – дела отлично шли и без них.
Интересно знать, почему? Почему такие предпочтения проявлял ребенок, родившийся и выросший в Советской стране, посещавший советскую школу и советский детский сад? Почему Толкин? Почему не Гайдар? Родители меня так не воспитывали. В этом отношении они меня вообще никак не воспитывали, предоставляя это дело школе. Никаких разговоров на политические и смежные темы я в нашем доме не помню. Повторять в семейном кругу навязшие на зубах советские лозунги было бы просто смешно, на такого человека посмотрели бы, как на ненормального. Выдавать информацию противоположного характера было небезопасно, все же ребенок есть ребенок, может где-то что-то ляпнуть. Думаю, мои родители вообще очень мало интересовались политикой, идеологией и т.п. Они старались, как могли, держаться подальше от официоза. Да и, собственно говоря, какой смысл интересоваться тем, что происходит помимо тебя, и на что ты никоим образом не можешь повлиять? На работе они посещали политзанятия и открытые партийные собрания (если не было подходящего предлога, чтобы оттуда смыться), поскольку были обязаны это делать. По вечерам отец слушал по нашему приемнику Ленинград-200, - лучшему из всех, которые были тогда в продаже, - Би-Би-Си и “Голос Америки”, причем мне строжайше запрещалось кому-либо об этом рассказывать.
Есть обычай на Руси -
Ночью слушать Би-Би-Си.
(фольклор)
Завывания "глушилок" - тогда я, правда, не знала, что это так называется, - были для меня милым домашним вечерним звуком, под который я с удовольствием засыпала. На этом участие моих родителей в политической жизни и заканчивалось. Собственно говоря, быть далеким от политики и было единственной политической свободой, доступной гражданам СССР.
Когда говорят о “промывании мозгов”, по-моему, редко отдают себе отчет в том, насколько трудно их действительно промыть, хотя заниматься этим можно, конечно, до бесконечности. Человеческий мозг – очень сложное устройство, и к счастью, никто не знает (пока), ни как оно работает, ни сколько степеней защиты предусмотрел для этого компьютера его Создатель. Толчком к свободомыслию может стать что угодно. В частности, в безобидной книжечке Астрид Линдгрен, пропущенной советской цензурой, содержалась совершенно жуткая по своей крамольности мысль: оказывается, можно прекрасно жить без всего того, что считается необходимым – партии, пионерской организации, комсомола. И при этом жить вполне счастливо. Оказывается, шведские крестьяне прекрасно собирают урожай, не будучи организованными в колхоз и не участвуя в социалистическом соревновании. Нет, я не хочу сказать, что сделала столь грандиозные выводы в возрасте 4 – 6 лет, когда больше всего увлекалась этой книжкой. Но зерно было посеяно.
Имеющий уши услышал. Интересоваться другим, не тем, что навязывают – это тоже форма неповиновения, пусть примитивная. У меня этот интерес был ярко выражен, начиная с самого раннего возраста. Наверно, я родилась нон-конформисткой. Но для того, чтобы интересоваться другим, нужно, чтобы в твоем жизненном опыте имелось в наличии хоть что-то другое. А для меня в детстве все другое группировалось вокруг “Хоббита”.
Что правда, то правда: нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Позднее выяснилось, что Толкин, изображая Шир, изобразил все то, что было ему мило в его любимом уголке Англии - западном Мидленде. Посмотрел бы он, во что его западный Мидленд превратился в моей голове. Мир Толкина существовал в моем сознании не сам по себе, а в сложном переплетении с окружающей сочинской реальностью. Таким образом, западный Мидленд непостижимым образом трансформировался во влажные субтропики Черноморского побережья Кавказа. И если бы из-за дуба или беседки однажды выглянул гном, я бы, наверное, не очень удивилась
. Скорее меня удивляло то, что этого не происходит. Нет, я прекрасно знала, что гномов на самом деле не бывает. Но и окон, выходящих внутрь, а не наружу, тоже не бывает, и, однако, они там были.
Большим любителем “Хоббита” был также мой двоюродный брат Алеша, которому эта книжка и принадлежала. Любовь к “Хоббиту” даже сыграла с ним злую шутку. Когда пришло время идти в школу, мама записала его не в обычную, а в специальную английскую. Для того, чтобы поступить в это учебное заведение, нужно было сдать нечто
вроде экзамена, на котором проверялось “развитие” ребенка. Экзаменационная комиссия состояла из нескольких тётенек с директором школы (тоже тётенькой) во главе. Когда в комнату вошел Алеша, тетеньки попросили его рассказать какое-нибудь стихотворение. Ну, он и рассказал - стишок из первой главы “Хоббита”. Приведу его начало (разумеется, я тоже знаю его на память):
Бейте тарелки, бейте розетки,
Вилки тупите, гните ножи.
Об пол бутылки, в печку салфетки,
Будет порядок, только скажи.
И далее по тексту.
Хоть школа и была специальная английская, боюсь, что тетеньки не оценили ни специфического английского юмора, ни качественного перевода на русский язык, ни Алешиной декламации. Они в ужасе взирали на малолетнего хулигана. Директриса первая пришла в себя.
- Скажи, деточка, - сказала она, - а еще какое-нибудь стихотворение ты знаешь?
- Нет, - отрезал мой братец, - хотя это было неправдой.
В ответ на последовавшие вопросы он доходчиво объяснил, что это стихотворение Джона Рональда Руэла Толкина из книги “Хоббит”. Нечего и говорить, что и автор, и книга были тётенькам не знакомы. Да и сейчас представители молодого поколения, к которым тётеньки пристают с рассказыванием стихов, могут проделать тот же фокус с тем же результатом. Впрочем, после выхода на экраны фильма по
мотивам “Властелина колец” имя Толкина все же на слуху. Голливуд несет культуру в массы.
Нужно отдать должное тетенькам – они верили, что Алеша не совсем пропащий. Они пытались выжать из него какую-нибудь хорошую, пристойную сказку вроде “Красной шапочки” или “Колобка”. Но он категорически отрицал свое знакомство с этими произведениями.
В английскую школу Алешу все же приняли. А историю эту моей тетушке, а его маме, рассказала ее приятельница, которая случайно, как рояль в кустах, оказалась в этой самой комиссии. Позже моя тетя спросила Алешу, зачем он сказал, что не знает “Красную шапочку” и “Колобка”.
- Да еще приставать начнут, расскажи да расскажи, - объяснил он. – А что я им, маленький – такую ерунду рассказывать?
Думаю, впоследствии мой двоюродный братец понял, что в школе нужно говорить только то, что от тебя хотят услышать, и ничего больше.
Комсомольская
Поскольку мытье на Орджоникидзе было весьма затруднительно из-за отсутствия ванны и водопровода в доме вообще, раз в неделю мы ходили мыться на Комсомольскую. Эта была первая виденная мною в жизни квартира с удобствами. Кстати, и из роддома меня тоже привезли на Комсомольскую, ведь родилась я в Сочи.
В раннем детстве эти походы были для меня целым событием. Комсомольская находилась недалеко от Орджоникидзе, минутах в пятнадцати ходьбы. Но все равно это было целым путешествием. Сначала мы шли по Орджоникидзе, по узорам из розовых плиток под платанами,
- до угла, где наша улица заканчивалась пересечением с Театральной. Сначала по левую руку тянулись живописные “курятники” самых разнообразных форм и размеров. Каждый из этих домов имел в моем представлении свой собственный характер, даже не характер, а тональность, присущую ему одному. Я воображала себе людей, которые могли бы там жить, т. е. которые подходили бы именно этому дому, и истории, которые могли бы там происходить. Особенно мне запомнился низенький одноэтажный оштукатуренный домик, маленькое окошко которого выходило прямо на тротуар. Обычно оно было наглухо зашторено, но это не мешало прохожим вольно или невольно любоваться всякой косметической ерундой, разложенной на подоконнике.
Правую сторону улицы занимали медучилище за чешуйчатой белой оградой, низенькое здание краеведческого музея, и большой санаторий, названия которого я не помню. В нем наш дедушка подрабатывал вахтером, когда был на пенсии – сидел в будке у входа и выдавал ключи.
На границе зоны “курятников”, по нашу сторону улицы, стояла трансформаторная будка с черепом и молнией на табличке. Далее следовал еще один интересный объект. Это был прямоугольный участок, огороженный высокой оградой из проволочной сетки, неширокий, но довольно длинный. Необыкновенного в нем было то, что он пустовал. Там никто не жил, и там ничего не было, кроме травы и деревьев. Тем не менее, участок был тщательно огорожен, так что к категории пустырей его тоже нельзя было отнести. В ограде не было ни ворот, ни калитки, и я никогда не видела там ни одного человека. Впрочем, нет, кое-что там все-таки было, – припоминаю какие-то постаменты для парковых статуй, но без статуй. Почему пустует участок в центре города, в десяти минутах ходьбы от моря, было неизвестно. В середине девяностых, когда я была в Сочи в последний раз, он был все в том же виде.
Дальше, на углу Орджоникидзе и Театральной, находилась сосисочная с поэтическим названием “Три журавля”. По словам мамы, когда-то там действительно было нечто вроде скульптуры, изображающей трех журавлей, но я это произведение искусства, увы, уже не застала.
Больше всего мне в этой сосисочной нравилась сосна, которая росла прямо внутри, - для нее в крыше было проделано отверстие чуть больше диаметра ствола, а приствольный круг, из которого она росла, был забран железной решеткой. Это было необыкновенно, а значит, здорово. Внутри маленького полукруглого павильончика с окнами во всю стену стоял вкусный сосисочный запах. Это было время дешевых и вкусных сосисок. Их не всегда можно было купить в магазине, но практически всегда – в сосисочной. Часто, возвращаясь с моря, мы туда заходили и покупали сосиски с небольшой наценкой
. Дома оставалось только сварить их, нарезать салат – и пожалуйста, обед готов.
С этой сосисочной связан один трагикомический эпизод. Мне было, наверное, лет пять, когда, во время очередного ее посещения, я заметила удивительное растение. Оно росло прямо из-под цоколя. Весь стебель был унизан плотно сидящими ярко-красными ягодами. Соблазн был слишком велик, не сорвать его было нельзя. Ну, я и сорвала. При этом несколько плотно сидящих ярко-красных ягод, конечно, раздавилось. Почти сразу же я почувствовала сильное жжение в руке, испачканной их соком. К этому моменту взрослые уже купили сосиски, и мы направлялись домой. Я выбросила коварное растение. Это не помогло, жжение усиливалось. Вероятно, я заревела, потому что помню, как мне стали вытирать руки носовым платком и прочими подручными материалами. Но и это тоже не помогло. До дома, к счастью, было недалеко. Там мне стали мыть руки просто водой, водой с мылом и даже со стиральным порошком, но жжение не прекращалось. В конце концов, оно, конечно, утихло. Но проходило очень долго и медленно. Я и по сей день не знаю, как называлась та коварная гадость. Я прекрасно знала, что нельзя есть незнакомые ягоды. Но никто и никогда не говорил мне, что их нельзя даже просто брать в руки.
Как следует из названия, на улице Театральной находился (и находится) театр – Сочинский театр оперы и балета. Это лучшее здание театра из всех, которые мне приходилось видеть. Кстати, с настоящими скульптурами работы Мухиной. Поскольку в Мелитополе театра нет вообще, а Сочинский театр я знала с раннего детства, то на его основе и сформировался мой эталон театра - та норма, с которой я вольно или невольно сравниваю все театры, попадающиеся на моем тернистом жизненном пути. В здании сочинского театра есть, с моей точки зрения, все, что нужно
для театра, и при этом всего в меру: величие без помпезности, красота без вычурности. После сочинского театра знаменитый Большой в Москве, сдавленный зданиями со всех боков, не произвел на меня особого впечатления. Не говоря уже о Днепропетровском оперном театре из стекла и бетона в стиле авангард. Нет, в моем понимании театр должен иметь классические очертания.
Место, на котором расположен сочинский тестр, на редкость удачное – рядом ни одного высокого здания. Стоит попасть в зону его видимости, как сразу становится ясно, что театр - это центр композиции, остальное – лишь обрамление. На одной из клумб рядом с театром росла пальма какого-то особенно теплолюбивого сорта, с трудом переносившая сочинские зимы. Она была очень высокая, и ее ствол на две трети высоты был замурован в каменный футляр - от холода.
В Сочи вообще много красивых и оригинальных зданий (“курятники” не в счет, хотя по-своему они очень живописны). Например, здание городской библиотеки возле гостиницы "Ленинград", похожее на резную каменную шкатулку. Или два очень интересных двухэтажных дома на проспекте Роз, параллельном Орджоникидзе. В одном из этих зданий во времена моего детства была аптека, а в другом – оптика. А во вторых этажах, кажется, были обычные квартиры. Стиль обоих зданий я бы определила как модерн. Наверно, эти дома были построены еще до революции людьми, которые могли себе позволить нанять хорошего архитектора. Советская архитектурная фантазия в таком направлении попросту не работала. Вот вокзал или театр - это да, ну а если жилой дом - то только стандартная прямоугольная коробка.
Но самым моим любимым зданием в Сочи был дом на Театральной, прямо напротив незабвенных “Трех журавлей”. От здания театра его отделял скверик с фонтаном, который назывался “снежный ком” – вода мелко-мелко разбрызгивалась во все стороны, образуя плотный водяной шар, и возле фонтана стояла радуга. Этот фонтан я в детстве тоже очень любила.
Мой любимый дом стоял на углу и поэтому был доступен для обозрения с двух сторон – со стороны Театральной и со стороны скверика. Каждый раз, проходя мимо, я смотрела на него с обожанием. Это был обычный жилой дом. Нижний этаж у него был оштукатуренный, верхний – деревянный. Но чего там только не было! И башенки по углам, и резные наличники, и полукруглые окна, и узкие, как бойницы, – прямо сказочный замок. У меня плохая зрительная память, поэтому я не могу описать подробно. Но нравился он мне ужасно. К сожалению, эпоха общедоступных “мыльниц” началась значительно позже, поэтому запечатлеть на пленку ни этот дом, ни другие свои любимые сочинские места мне не удалось. Тогда я даже не думала о такой возможности. Остались, правда, цветные открытки с видами города, которые в Сочи продавались в изобилии, но на них изображены, в основном, “общественные места”, большинство которых мне совершенно безразлично. Правда, одну из таких открыток – с театром – я все же люблю. Она будит во мне сентиментальные воспоминания.
Комсомольская находилась (и, надо думать, все еще находится) ниже Орджоникидзе, в балке. Чтобы туда попасть, нужно было спуститься по длинной лестнице, которая начиналась за моим любимым домом, в конце скверика с фонтаном. Лестница была старая, местами сильно разрушенная, и проходила сквозь такие заросли деревьев и кустов, что даже днем там царил полумрак. Больше всего меня на ней интриговали три широкие, сантиметров по десять в диаметре, норы под корнями одного из деревьев. Я была уверена, что там живут змеи.
Крутой склон, по которому сбегала эта лестница, когда-то был застроен домами. Для Сочи это явление обычное, там вообще не слишком много ровных мест. Потом дома, очевидно, снесли, и на моей памяти окрестности лестницы были уже необитаемы. Кое-где виднелись кучи строительного мусора, напоминавшего о том, что когда-то здесь жили люди. Лианы густо оплетали деревья по обе стороны лестницы. Особенно успешно душила деревья глициния. Ее толстые одревесневшие побеги, похожие на туго переплетенные жгуты или на сцепившихся змей, взбирались на умопомрачительную высоту. Не отсюда ли моя фантазия про змеиные норы? Через несколько лет эта лестница пришла в такое состояние, что пользоваться ею стало невозможно, и мы стали ходить на Комсомольскую другим путем. Но до этого еще далеко.
От подножия лестницы до нужного нам дома было минут десять ходьбы по узкой улице без тротуара. Это и была Комсомольская. По левую руку тянулся склон, кое-где среди деревьев виднелись дома. Все они были старые и тоже, наверное, предназначенные под снос, но попадались среди них и очень интересные. До сих пор отлично помню большой двухэтажный дом с овальным окном в стиле модерн. Он был здорово запущенный, с облупившейся штукатуркой, но внушал уважение, как все, что было когда-то хорошо сделано, даже если потом оно пришло в упадок.
Следуя по Комсомольской дальше, в сторону, противоположную морю, можно было увидеть и другие интересные вещи. Одной из этих интересных вещей был опять-таки жилой дом, стоящий у самой дороги. Это был типичный двухэтажный “курятник” в обрамлении пышно цветущей розовой гортензии. Интересного в нем было то, что дорога в этом месте была приподнята над окружающей местностью, а первый этаж дома находился ниже уровня дороги и казался поэтому подвальным. Зато второй был лишь ненамного выше уровня дороги, и догадливые жильцы второго этажа свою наружную деревянную лестницу спустили прямо на обочину проезжей части. Получился как бы двухэтажный дом с двумя первыми этажами, расположенными на разных уровнях. Правда, в таком расположении дома были и свои минусы. Например, какой-нибудь водитель мог, не справившись с управлением, въехать прямо в этот первый-второй этаж.
Недалеко от этого места был поворот, завернув за который, вы видели мощные опоры моста. Это был автомобильный мост, соединяющий оба края балки, на дне которой находилась Комсомольская. Сама Комсомольская с легкостью проскальзывала между двумя опорами, и уходила по дну балки куда-то вдаль, к горам, синеющим на горизонте. Вся остальная площадь, занятая под опоры, была запретной зоной, огороженной проволочной сеткой. Там стояла будка, в которой сидел охранник. И, поскольку там практически никто не ходил, под мостом росла хорошенькая зеленая травка.
С этим мостом связан забавный случай. В молодости мой отец увлекался киносъемкой. Видеокамер тогда еще не было, а кинокамеры были. Они позволяли снимать без звука. У нас осталось много таких немых фильмов. Как-то раз (меня еще на свете не было), мои родители шли на Комсомольскую, причем по пути отец снимал маму на кинокамеру. Ну вот, дошли они так, снимая, до моста, и тут из будки выскочил охранник и потребовал, чтобы отец засветил пленку. Отец объяснил, что снимал свою жену, а до моста ему никакого дела нет. Это не помогло. Охранник настаивал на своем, в противном случае угрожал стрелять(?!). С этого места был уже прекрасно виден наш дом и окна нашей квартиры
в торце на пятом этаже. Родители показали охраннику наши окна и сказали, что, если им захочется, они могут снять весь мост целиком или любой его фрагмент из своего окна. Это тоже не возымело никакого действия, и пленку пришлось засветить, чтобы избежать расстрела на месте. Вот она, бдительность. А ведь тогда о террористах если и слыхали, то как о чем-то далеком, зарубежном и не имеющим к нашей действительности никакого отношения.
Мне нравилось проходить под мостом, – он был такой высокий, что от взгляда вверх начинала кружиться голова, а от ужасающе мощных бетонных опор, разветвлявшихся высоко вверху, делалось страшно. По другую сторону балки находился универсам, в котором мы часто покупали продукты, и ходили мы туда как раз через этот мост. Это было одним из многих развлечений, на которые была так щедра моя сочинская жизнь. Вход на мост находится на перекрестке Театральной и проспекта Роз. По обе стороны проезжей части моста были тротуары, с каждого из которых открывался по-своему роскошный вид: с одной стороны - на море и гостиницу "Жемчужина", с
другой - на горы, смыкавшиеся вдали по обе стороны балки. Особенно интересно было идти по мосту, ведя (для страховки) рукой по бетонному ограждению, и смотреть, как с каждым шагом резко уходят вниз зеленые заросли на склоне. Наконец, узкая долина внизу достигает своей максимальной глубины, и я могу долго и самозабвенно разглядывать все ее содержимое: дома самых разнообразных форм и размеров, деревья, маленьких, как муравьи, людей, легковушки величиной со спичечный коробок, Комсомольскую, которая кажется отсюда узкой лентой, пропадающей под мостом.
Среди прочего антуража была внизу, за мостом, и большая понижающая подстанция, тоже огороженная забором из проволочной сетки. Наш путь "на Комсомольскую" пролегал как раз мимо нее. За оградой были ряды непонятных металлических штук с круглыми гармошками изоляторов. Между ними тоже росла хорошенькая зеленая травка, что, впрочем, не мешало мне в раннем детстве панически бояться этого места. Меня пугал звук – низкое гудение трансформаторов. По мере нашего приближения к трансформаторам гудение, естественно, нарастало. В этом медленном, но неуклонном нарастании мне чудилось что-то зловещее, и я неизменно начинала реветь.
Пережив это испытание, мы, наконец, подходили к дому. Этот дом был обыкновенной стандартной пятиэтажкой, но тоже имел ряд оригинальных черт.
Место, на котором он стоял, имело довольно сильный уклон. Поэтому в первом подъезде балконы и входная дверь были вровень с землей, а дальше местность понижалась, и для третьего подъезда уже требовалось крылечко. Дальше местность понижалась еще сильнее, так что наш шестой подъезд был, фактически, семиэтажным. Под первым этажом был цокольный, в котором размещалось какое-то учреждение, что-то вроде проектного бюро. А еще ниже, под цокольным, был еще один этаж, где в окнах ничего не было видно, кроме нагромождения каких-то труб и страшной серой паутины. Чтобы добраться до двери в последний подъезд, пришлось бы строить длинную, крутую и небезопасную лестницу, поэтому строители пошли по другому пути. Двери последних трех подъездов выходили на платформу из бетонных плит, огороженную металлическими перилами. Начиналась платформа вровень с землей возле четвертого подъезда, а возле входа в шестой под ней помещался уже целый этаж, тот, что с трубами и паутиной. Окна цокольного этажа были над платформой. Мне очень нравилось, проходя мимо, заглядывать в них и смотреть, как дяди и тети что-то чертят на кульманах.
В этом подъезде был совершенно особый запах. Обычно наши подъезды не слишком ароматны. Самый лучший запах, который можно там встретить – это запах свежей побелки. Но гораздо чаще воняет кошачьей мочой или мусором из мусоропровода. Запах этого подъезда невозможно точно определить. Он был чуть слышный, но это был хороший, “чистый” запах, и он не менялся с годами. Поэтому я думаю, хоть это может показаться странным, что причиной был бетон. Да, возможно, бетон там был какой-то особенный. Может быть, немного другого состава. Просто запах любого другого происхождения давным-давно бы выветрился.
Лифта в подъезде, понятное дело, не было, как и во всех стандартных пятиэтажках советской постройки. Очевидно, считалось (и теперь считается)
, что советские граждане не сдохнут, если дойдут пешком до пятого этажа. Маленькие дети, их родители с колясками, старики и инвалиды в расчет не принимались. Их как бы не было.
Поднявшись по первому лестничному пролету, вы упирались в совершенно глухую лестничную площадку без окон и дверей, - в проектное учреждение был отдельный вход. Людям, страдающим клаустрофобией, это место, скорее всего, не понравилось бы.
Но меня в раннем детстве больше всего интриговали в этом подъезде окна, первое из которых, как и положено, размещалось на следующей лестничной площадке - между первым и вторым этажом. Дальше на каждой площадке между этажами было по два узких длинных окна, одно над другим, а между четвертым и пятым – целых три. Поэтому на площадке пятого этажа было очень светло. Но самое интересное было то, что в эти окна, расположенные в одном и том же подъезде, видно было разное. На первой площадке, где света было маловато, а окно – высоко, можно было увидеть фрагмент крутого склона, поднимавшегося рядом с домом; в окнах на последующих этажах - другие фрагменты того же склона да еще ветки растущей на нем акации, причем в каждом окне – разные ветки. Наконец, в трех верхних окнах можно было рассмотреть верхушку акации и небо над ней, что придавало мозаике своеобразную логическую завершенность.
Мы поднимались на пятый этаж мимо всех этих загадочных окон и не менее загадочных дверей на этажах, - по три двери на каждом. Помню аккуратную, отпечатанную типографским способом табличку “Квартира не сдается”, неизменно висевшую на одной из дверей третьего этажа в течение многих лет. На площадке пятого этажа, где у меня всегда немного кружилась голова, и я старалась не подходить к перилам, была еще одна интригующая деталь – железная лесенка, которая вела к люку в потолке – на чердак. Это интриговало. Значит, есть что-то еще выше, чем последний этаж? И что бы там такое могло быть?
Но тут открывалась дверь, и мы попадали в квартиру, которая была известна в нашем семейном кругу под кодовым названием "Комсомольская". Эта квартира была угловая. Там были две небольшие смежные комнаты “трамваем”, маленькая прихожая, раздельный санузел и кухня с балконом.
Поскольку Комсомольская была первой в моей жизни квартирой “с удобствами”, самые ранние впечатления о ней связаны с купанием. Почему-то там всегда было трудно получить в смесителе воду нужной температуры. Вот вроде уже все настроили как следует, течет теплая вода, и тут, по непонятной причине, – скорее всего, кто-то повернул кран на нижнем этаже, – из крана начинал хлестать кипяток или, наоборот, совершенно холодная вода. Еще запомнились многочисленные разноцветные бутылочки с шампунями, стоявшие вверху на маленьком окошке, выходившем
в кухню. Шампуни в те времена, насколько я понимаю, только начинали появляться в СССР, и были одним из множества “дефицитов”. Были они импортные, чем и объяснялась их несоветская яркость и красочность. Отечественные появились значительно позже. Сочи и в этом отношении резко отличался от Мелитополя. Нет, на прилавках там, в основном, было то же самое, что и в других частях нашей необъятной родины. Но приморский город есть приморский город. Там были моряки, ходившие в загранку. Была “Березка”. Были гостиницы “Интуриста”. А значит, водились товары, отсутствовавшие в советской торговой сети, которые или продавались на “черном рынке”, или служили в качестве валюты для получения других труднодоступных товаров или услуг. Отсюда еще один советский феномен – вы могли зарабатывать кучи денег где-нибудь в Сибири, и все же не иметь возможности купить то, что вполне мог позволить себе человек со скромной зарплатой, живущий в Сочи или другом аналогичном городе. Да, стоимость денег в Советском Союзе была понятием очень относительным. Перед такой относительностью спасовал был сам Эйнштейн.
Если уж речь зашла об импортных товарах, нужно сказать пару слов и о жевательной резинке. Именно в Сочи я впервые увидела и попробовала ее. Не могу сказать, что это была любовь на всю жизнь. Жвачку я не люблю и никогда не покупаю. И в детстве она мне сама по себе не очень-то нравилась. Был в этом какой-то обман: сначала вкусно, а потом – нет. Нравилось другое – красивые фантики. Я даже стала их коллекционировать, т.е. двоюродные брат с сестрой просто отдали мне все, что у них было – наверно, сами уже наигрались. Пополнять эту “коллекцию”, т.е. собственно заниматься коллекционированием, у меня не было никакой возможности. В Сочи кто-нибудь еще мог угостить меня жвачкой (и это день стал бы для меня праздником), но откуда взяться жвачкам в Мелитополе? Там они тоже, в конце концов, появились, но гораздо позже, под конец "перестройки", когда я уже давным-давно выросла из подобных детских увлечений. Но фантики, привезенные из Сочи, я свято берегла и очень любила перебирать и рассматривать. Примерно в то же время в торговой сети появился “наш ответ Чемберлену” - отечественные жвачки, квадратные, как конфеты “ириски”, в тусклых обертках и почти всегда скверного качества
- они почему-то крошились. Но это, разумеется, было совсем не то.
В связи с этой коллекцией оберток от иностранных жвачек возникает закономерный вопрос – почему? Ну, дети часто коллекционируют всякую ерунду. Но в том-то и дело – всякую. Почему же в данном случае именно эту, а не какую-нибудь другую? А все дело в том, что с очень раннего возраста и очень постепенно, так что датировать этот процесс совершенно невозможно, у меня стало формироваться понятие недоступности заграницы. Оно было аморфное, нечеткое, почти невербализованное, но оно было. Оно постепенно вырисовывалось в сознании в качестве аксиомы. Почему через две точки можно провести на плоскости только одну прямую? А нипочему. Просто это и так понятно каждому. С заграницей было то же самое. Да, я знала, конечно, что кто-то туда
ездит. Например, журналисты, которые пишут статьи про разные страны. Но люди, которые туда ездят, как и сама заграница, принадлежали к другому миру, с которым у меня не было ничего общего. Я знала, что мои родители никогда не были за границей, и поехать в Америку, например, не могут. Почему? А нипочему. Не могут – и все. Точно так же, как не могут летать. Да такой вопрос и в голову не приходил. Кто же будет спрашивать об очевиднейших вещах!
Как составная часть в понятие недоступности заграницы входило понятие о том, что все, связанное с заграницей, даже если оно находится здесь, в нашем мире, труднодоступно и окутано завесой тайны. За примерами далеко ходить не надо. Примером служила та самая “Березка”, мимо которой мы ходили на пляж. Было в этом небольшом
и неброском магазинчике нечто от святилища, в котором совершается какое-то священнодействие. Там, за стеклянными стенами, завешанными изнутри жалюзи, происходило что-то, доступное лишь посвященным, и мне туда было нельзя.
Или – гостиницы “Интуриста”, которых в Сочи было несколько. По разговорам взрослых, скорее даже по тону, чем по содержанию, я быстро усвоила, что “Интурист” – это совсем не то, что другие гостиницы, а нечто совсем-совсем другое. И оттого, что было ясно, что они чем-то отличаются, а чем именно – ясно не было, “Интурист” тоже был окутан некой мистической дымкой. Глядя из окна Комсомольской на белый параллелепипед гостиницы “Жемчужина”, который был виден за мостом, я испытывала некий священный трепет.
Однако вернемся к жвачкам. В фантиках от жевательной резинки важно было именно то, что они были заграничные. Они, эти фантики, были там, где не была я, но это было еще не все. Они были там, где в принципе невозможно побывать. Это были артефакты другого мира, другой реальности. В этом не могло быть сомнения, потому что они тоже были другие – яркие, разноцветные, с картинками, которых у нас бывает. Чтобы в этом убедиться, достаточно было сравнить их, например, с обертками карамелек из ближайшего магазина. В этих фантиках была та же прелесть, что и
в океанских раковинах, которые лежали где-то на недосягаемой глубине, под огромной толщей воды, а теперь непостижимым образом, через десятые руки, попали к вам, и вы держите их в своих руках. Потому-то и собирала я эти фантики, а не обертки от карамелек.
Это понятие недоступности заграницы было свойственно не мне одной, и вообще не было исключительно детским. Помню характерный случай. Мне было уже лет 12 – 13. Мы шли с пляжа. Тогда мы жили на Комсомольской и возвращались домой мимо гостиницы “Жемчужина”, о которой тут уже упоминалось. Дальше, за “Жемчужиной”, было нечто, огороженное дощатым забором, – кажется, автостоянка. На одном из столбиков этого забора стоял странный, красивый и явно заграничный предмет. Отец снял его. Это была пустая жестянка от пива
“Tuborg”. Не могу сказать, знала ли я раньше, что на свете существует такая марка пива. Пивом я тогда совершенно не интересовалась (не то, что теперь). Но до этого я точно не сталкивалась с такой упаковкой. Советское пиво разливалось в пол-литровые бутылки с маленькой невзрачной полукруглой наклейкой и блестящей металлической крышечкой без каких-либо надписей и прочих опознавательных знаков. Тратиться на упаковку, действительно, было ни к чему. Советские потребители и так расхватают, и недовольны будут только одним – что не всем хватило. Найденная жестянка заворожила меня своей красотой. Какой у нее был шарм, у этой жестянки! Какая элегантность! Какое изящество!
В своих эстетических оценках я была отнюдь не одинока. Все наше семейство оценило находку по достоинству. Мы взяли ее с собой, на Комсомольской хорошенько вымыли, а потом увезли в Мелитополь, где она в течение многих лет украшала собой полочки над обеденным столом, которые у нас выполняли ту же роль, что и каминная полка в более аристократических домах.
Ну, скажет культурный читатель, вот папуасы! Жестянки от пива не видели! Еще бы ручку от фарфоровой чашки себе в нос вставили, что ли! Обижаться на “папуасов” я не буду. Папуасы принесли человечеству неизмеримо меньше горя и страданий, чем люди культурные и высокообразованные, и с них (папуасов) не мешало бы в этом отношении взять пример. Но вот в чем фишка. Если бы предложить гипотетическому культурному читателю в качестве сувенира настоящую древнегреческую амфору, даже совсем без росписи, он бы с удовольствием взял ее и поставил, нисколько не стесняясь, на свой аристократический камин. А ведь амфора – это просто сосуд для хранения зерна. Элеваторов тогда не было. Как и жестяных пивных банок. В чем же принципиальное отличие между древнегреческой амфорой и пустой жестянкой из-под пива
“Tuborg”?
Ну как же, не унимается гипотетический культурный читатель. Древнегреческая амфора – это памятник давно ушедшей эпохи античности. Его культурное и историческое значение бесспорно. В то время как жестянка от пива – это фи, ширпотреб, продукт массовой культуры и рекламной индустрии. Такие “шедевры” можно сейчас десятками выуживать из любого мусорного контейнера.
А вот и нет, милый друг, про “сейчас” вам никто и не говорит. Вам говорят про “тогда”. Тогда, в одна тысяча девятьсот восемьдесят затертом году, мир, из которого пришла эта жестянка из-под пива
“Tuborg”, был так же недоступен для меня и моих родителей, как, например, Марс. Или Древняя Греция. Поэтому, хотя рыночная стоимость жестянки из-под пива и древнегреческой амфоры значительно отличаются, их культурное значение в данном случае совершенно одинаково. Так что забирайте свою амфору и катитесь отсюда.
Расправившись, таким образом, с гипотетическим культурным читателем, который лез с дурацкими комментариями и ложными замечаниями портил сеанс, можно продолжать.
Понятие "железного занавеса" было в свое время введено в обращение с легкой руки Уинстона Черчилля. Я не Черчилль, и у меня советская действительность вызывает совсем другие ассоциации. Скорее, я сравнила бы ее с запаянной консервной банкой, которую кипятят в кастрюле с водой с целью получения сливочной тянучки из находящегося внутри сгущенного молока. Одно время это было модно.
Сгущенное молоко входило в разряд дефицитных товаров. Его доставали по блату или в очередях. А ведь это не Бог весть какой деликатес
. Очевидно, для того, чтобы оправдать усилия, затраченные на его добывание, хотелось приготовить из него что-нибудь этакое. Беда в том, что от взрослых эту моду подцепили дети. Сама я, к счастью, не ставила подобных экспериментов, но разные люди в разное время рассказывали мне, в сущности, одну и ту же историю: про то, как она (он) с сестрой (братом, подругой, другом), когда родителей не было дома, решили "сварить сгущенку". Поставили ее на огонь и пошли гулять. Для получения искомого продукта "варить сгущенку" нужно было долго, часа три - четыре. Финал ясен: вода выкипала, банка взрывалась, а ее содержимое прилипало к стенам и потолку. Легко вообразить себе радость родителей.
Именно такой долго варимой в собственном соку, а затем эффектно взрывающейся консервной банкой и представляется мне бывший СССР. Ах, господа-товарищи! Если уж варите, так хоть воду бы подливали!
Жизнь в запаянной консервной банке не могла не породить очень своеобразную психологию, или, как принято сейчас говорить, "менталитет". Думаю, не очень сильно ошибусь, если скажу, что большая часть населения, наперекор советской пропаганде, была втайне уверена в том, что за границей - лучше. Что лучше? Да не "что", а просто - лучше. Лучше вообще. Лучше как таковое. По крайней мере, в восьмидесятых слово "импортный" уже приобрело значение высшей похвалы. Импортный - значит хороший, красивый, качественный. Человек, побывавший за границей - неважно, зачем он туда ездил, где и сколько был и что делал - считался успешным, чего-то добившимся в этой жизни. Девушка, вышедшая замуж за иностранца и покинувшая таким манером родные пределы, автоматически считалась красавицей, умницей и воплощением всевозможных добродетелей. У моего дяди, живущего в Москве, была родственница со стороны жены, которая работала продавщицей в ГУМе. Там она познакомилась с итальянцем, вышла за него замуж и уехала в Италию. В семье о ней говорили с таким пиететом, как будто она получила Нобелевскую премию или, по меньшей мере, выиграла Олимпийские игры.
Отчасти в таком положении вещей была виновата сама советская пропаганда, которая работала довольно топорно, так что объекты промывания мозгов прекрасно осознавали, что им их промывают. А дальше уже начинается доказательство от противного. Вы нам втираете, что за границей плохо - а мы знаем, а мы знаем, что там хорошо!
Запретный плод сладок. Чем труднее попасть за границу, тем больше люди будут этого хотеть. Если уж не удается туда попасть, постараются добыть себе хоть кусочек заграницы: импортные туфли, платье, пальто, хоть фантик от жвачки, на худой конец. И дело тут не только в том, что потребительские товары на Западе были лучшего качества. Недоступная заграница становилась самоцелью.
Недавно в одной очень интересной книжке по паблик рилэйшнз я прочитала, что, по мнению автора, самым действенным способом западной пропаганды в бывшем СССР была пропаганда материальными предметами. Те вещи, которые привозили в Союз немногие счастливчики, которым удавалось побывать "за бугром", производили на советскую публику неизгладимое впечатление. Равно как и красивые машины и наряды, которые эта публика видела в иностранных фильмах. Так-то оно так, но все же это едва ли можно назвать пропагандой. Если бы красивые вещи, привозимые в Советский Союз,
были бы изготовлены в немногих экземплярах специально для того, чтобы произвести впечатление на неискушенную советскую аудиторию, а красивые машины и наряды из кино были бы просто бутафорией, - тогда это была бы пропаганда. Но ведь вещи были самыми обычными, а отнюдь не эксклюзивными, и атрибуты "красивой жизни", хоть и доступные не каждому, тоже были абсолютно реальными, а не бутафорскими. Они делали все это для себя, а не для нас. А то, что это воздействовало на советское население как пропаганда… Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит.
Интересно, что этот советский синдром не изжит до сих пор, хотя все больше людей приходит постепенно к другому выводу - что с деньгами везде хорошо, а без денег везде плохо. Не так давно мне пришлось иметь дело с семейством, иммигрировавшим в Канаду. Поскольку никто из них английским в должном объеме не владел, я помогала им оформлять документы и готовиться к собеседованию. За время общения с этими людьми я узнала о них очень многое, не узнала только одно - зачем им, собственно, понадобилось ехать в Канаду. На Украине у них было все: собственная небольшая, но вполне процветающая фирма, квартира, машина, дочь училась в университете, сын - в лучшей школе города. При желании они могли съездить за границу в качестве туристов, что неоднократно и делали. И вдруг - бросить налаженный быт, свое дело и уехать в чужую страну, навстречу очень туманным перспективам, не зная языка, местных законов и обычаев, обрекая себя тем самым на многолетний болезненный период адаптации. У них не было проблем с правоохранительными органами, никто не преследовал их за политические взгляды (если таковые у них были), эпоха дефицита давно канула в Лету, и они могли купить все, что угодно, в ближайшем супермаркете. Скорее всего, они и сами не знали, зачем туда едут. Идея великого переселения принадлежала главе семейства. Он хорохорился и уверял, что на все руки мастер и при необходимости может работать и токарем, и кем-то там еще. Только вот вопрос: какой интерес работать токарем тому, кто несколько лет был владельцем и директором собственной фирмы? Похоже, этот человек, которому на момент отъезда было за сорок, в молодости стал объектом подспудного внушения мантрой "за границей - лучше", и пронес это убеждение через всю жизнь. Он просто не мог поверить в собственный жизненный успех, не увенчав его главным показателем - отъездом "туда". Без этого успех был бы неполным.
Потом от них пришло сообщение по электронной почте - о том, что очень тяжело учить "этот паскудный язык", домашнее задание на курсах приходится делать по три часа. Да еще стенгазету заставили рисовать ко Дню независимости Канады. Но, милые мои, вас ведь никто туда не гнал! Не хотите учить "паскудный язык" - сидели бы дома!
Однако вернемся на Комсомольскую. В целом ранних воспоминаний о ней у меня немного. Там всегда было скучновато. Две комнаты, кухня, не так уж много мебели, никаких игрушек и детских книг, – фактически, ничего такого, что было бы интересно ребенку. То интересное, что я помню о Комсомольской, касается не столько
самой квартиры, сколько вида с балкона и из окон. Окна обеих комнат, как я уже упоминала, выходили на мост, охраняемый бдительным стрелком вневедомственной охраны. Мост, действительно, представал во всем своем великолепии. Машины по нему сновали как раз на уровне наших окон. На пологом склоне слева были видны среди зелени весьма живописные одно- и двухэтажные домики того же типа, что и на Орджоникидзе. А внизу, у моста - маленькая, бесшумная на таком расстоянии и поэтому нестрашная, понижающая подстанция с хорошенькой зеленой травкой между рядами трансформаторов. За мостом был виден белый параллелепипед гостиницы “Жемчужина”, а левее и ближе один за другим строились корпуса пансионата “Светлана”. Особенно красиво было вечером. На мосту горели желтоватым светом ветвистые фонари, на крышах “Жемчужины” и “Светлан” - яркие разноцветные неоновые вывески, которые всегда приводили меня в восторг. Это вывески были сделаны, насколько я понимаю, по чисто эстетическим соображениям, ведь советская действительность в рекламе не нуждалась. В условиях товарного дефицита потребитель безо всякой рекламы найдет дорогу в магазин и выяснит, что именно там продается. То же касается и гостиниц. Поэтому-то на тех редких советских граждан, которым удавалось побывать за границей, горящие неоном западные города производили ошеломляющее впечатление. Я не была за границей, и Сочи в этом отношении, надо думать, значительно уступал Лас-Вегасу, но мне и того хватало. Я была в восторге. В Мелитополе ничего подобного не было.
В Сочи темнеет рано, и гулять по городу после наступления темноты было одним из моих любимых развлечений. Никаких особых маршрутов для прогулок у нас не было. В приморской части города можно было просто брести, куда глаза глядят - и везде было красиво и интересно. Неоновые вывески гостиниц, ресторанов и кафе горели всеми цветами радуги, только намного ярче, чем радуга. Деревья и кусты в этом свете выглядели совершенно не так, как днем, и от этого было особенно интересно. Из ресторанов и кафе слышалась музыка, а где-то за пределами освещенного пространства, в темных влажных зарослях, гремели оркестры невидимых цикад. А мигающий красный глаз маяка, видный с набережной! А пунктирный узор из красных лампочек, обозначающий огромный силуэт телевышки на Батарейке!
Балкон картиры на Комсомольской выходил на другую сторону – на крутой обрыв со стороны подъездов. Внизу обрыв был укреплен подпорной стеной, так что между ней и домом образовался узкий коридор. В нескольких местах на стене были сделаны круглые отверстия, из которых сбегали маленькие ручейки. Они бесшумно скользили по замшелой поверхности бетона и объединялись вместе в канавке у подножия. Ночью, когда стихал шум машин и прочие дневные звуки, за окном внизу было хорошо слышно нежное журчание воды.
По высоте обрыв как раз равнялся нашему пятому этажу, и весь был покрыт буйной растительностью. Среди буйной растительности тут и там торчали вбитые в обрыв шесты, к которым крепились с помощью блока бельевые веревки - с одной стороны к шесту, с другой - к балкону. Такой метод сушки белья очень удобен: не нужно разводить сырость на балконе, а украсть белье, болтающееся в небе на высоте пятого этажа, практически невозможно. Из буйной растительности на этом обрыве мне больше всего нравилась маленькая рощица бамбука высоко на склоне. Во второй половине дня, когда солнце склонялось к морю и освещало ее косыми лучами, она приобретала золотистый оттенок, и это было очень красиво.
Попасть из узкого ущелья этого двора наверх можно было по длинной бетонной лестнице с многочисленными площадками. Необходимость проделать этот путь возникала довольно часто, потому что там, наверху, находился ближайший продовольственный магазин - в просторечии "одиннадцатый". Чтобы попасть в "одиннадцатый", нужно было сначала подняться на две расположенные одна над другой асфальтированные террасы. Они тоже были частью двора, потому что внизу двора, как такового, не было - только узкий проход. На одной из них были металлические опоры с веревками для сушки белья, другая, по-видимому, использовалась как детская площадка. Эти террасы очень нравились мне в детстве, потому что были обсажены моими любимыми деревьями - японской мимозой с восхитительным ароматом розовых пушистых цветов. Права, потом эти японские мимозы почему-то все вдруг дружно засохли. Очевидно, их поразила какая-то мимозная болячка.
Террасы тоже были укреплены подпорными стенами. На верху подпорной стены у самой лестницы, ведущей к "одиннадцатому", рос роскошный куст ажины, весь усыпанный черными и красными ягодами. Выглядели они очень соблазнительно, но, поскольку стена была высотой в человеческий рост, добраться до них было практически невозможно.
Лестница была длинная. Поднимаясь по ней, вы все больше и больше возносились над грешным миром, и на каждой площадке, если оглянуться назад, открывались все новые и новые горизонты. Сначала весь обзор заслонял дом. Потом над его крышей становился виден противоположный склон балки. Примерно на середине лестницы на этом склоне становились видны вагонетки канатной дороги, которые скользили над темной массой деревьев
по тонкому, как паутинка, тросу, от одной металлической опоры к другой.
По обе стороны лестницы жили люди. В некоторых случаях они жили почти на лестнице. Это была жизнь нараспашку в еще большей степени, чем на Орджоникидзе. Дома стояли почти вплотную, и среди них не было двух одинаковых. Их наружные лестницы спускались со вторых этажей чуть ли не на самые ступеньки. Крошечные пятачки у двери, которые здесь считались "двором", просматривались насквозь, даже если у вас не было ни малейшего желания на них смотреть. Впрочем, иногда "личная жизнь" пряталась за кустами усыпанного воронковидными белыми и сиреневыми цветами гибискуса, предусмотрительно посаженного со стороны лестницы.
По поводу этого обрыва у меня сохранились довольно занятные ранние воспоминания – очень ранние, если судить по их отрывочности. Я запомнила какие-то домики, которые видела на обрыве с нашего балкона. Один, совсем маленький, я помню особенно четко. Он стоял на таком крутом месте, что было непонятно, как он вообще там держится. Его окружала дощатая платформа, которая заменяла двор, потому что рядом с ним, кажется, и стать было негде. На этой платформе почему-то было очень много пустых бутылок, расставленных правильными рядами. Еще я помню какие-то ели, будто бы росшие на этом склоне. Потом, когда я стала старше, там уже не было ни елей, ни домиков.
Это нуждалось в объяснении. В более старшем возрасте я ясно видела, что на этом обрыве не могло быть никаких домов. Он был почти отвесный. Даже просто залезть на него было бы весьма проблематично. Не говоря уже о том, чтобы строить там дома.
Так я пришла к выводу, что мои воспоминания ошибочны. То есть, я действительно помнила домик с платформой, тут сомнений быть не могло. Но решила, что этот домик я видела где-нибудь в другом месте (хоть и неясно было – где, а если это фантазия, то откуда бы взяться такой странной фантазии?), а потом он стал неверно ассоциироваться с Комсомольской. Каково же было мое удивление, когда однажды в разговоре с мамой случайно выяснилось, что дома на склоне действительно были! Потом их снесли. Она даже вспомнила, что, когда я была совсем маленькой и мы жили на Комсомольской, в одном из этих домов жили пьяницы, которые не давали спать по ночам – включали на полную громкость проигрыватель. Однажды мой отец не выдержал
и стал швырять в них пустыми бутылками. Тут-то множество пустых бутылок на платформе и получило объяснение, – разумеется, не в том смысле, что их набросал мой отец, а в том, что у пьяниц имелся собственный обширный запас. Память – удивительная штука. Сколько лет мне тогда было? Наверно, года два - три. И вот почему-то это запомнилось. Почему-то – именно это. Причем совершенно ясно и четко. Эта картина как будто выступает из мрака, потому что больше о своем пребывании в Сочи в то время я не помню абсолютно ничего.
После смерти моей бабушки на Комсомольской с дедушкой стала жить одна из моих теток с сыном – моим двоюродным братом Алешей, любителем "Хоббита". Не могу сказать, чтобы ей очень везло в жизни. Но все же один раз ей крупно повезло. Причем счастье привалило с совершенно неожиданной стороны.
Где-то в начале восьмидесятых рядом с нашим домом на Комсомольской развернулось строительство. Строили еще одну пятиэтажку. Казалось бы, какое это могло иметь отношение к везению моей тетки? А вот какое. Согласно проекту, между строящимся домом и нашим должно было быть нечто вроде перемычки. И вот ко всем угловым двухкомнатным квартирам добавили еще по две комнаты, которые и составили эту самую перемычку. Маленькие двухкомнатные квартиры, как в сказке, превратились в большие четырехкомнатные с двумя большими лоджиями. Ну, а если принять в расчет то, что это внезапное расширение площади произошло в Сочи, в пятнадцати минутах ходьбы от моря… Что и говорить, редкое везение.
Нужно сказать, что планировка в преобразованной квартире была странноватая. Вообще, на странные планировки моей тетушке везло всю жизнь. И хотя планировка на Комсомольской не отличалась такой оригинальностью, как на Орджоникидзе, все же она заслуживает того, чтобы ее описать.
Окно большой комнаты, через которое я когда-то любила смотреть на мост и гостиницу “Жемчужина”, было переделано в дверь, через которую можно было попасть в новую часть квартиры. Окно маленькой комнаты теперь почти целиком выходило на лоджию, только маленький его кусочек оставался снаружи. В общем-то, в этом не было ничего страшного, но, когда тетя сдавала эту комнату отдыхающим, возникали проблемы. С лоджии было прекрасно видно все, что происходило в комнате, а отдыхающие отнюдь не горели желанием стать участниками программы “За стеклом” (впрочем, тогда такой программы, конечно, не было). Поэтому тетя просила нас мелькать на лоджии как можно меньше.
С лоджии тоже открывался интересный вид, хотя и другой, не такой, как из прекратившего свое существование окна. Мост теперь был виден справа, и значительная его часть была закрыта крышей нового дома. Лоджия была несколько выше уровня крыши нового дома, и ее боковая часть, выходившая на крышу, была забрана толстыми железными прутьями. “Жемчужины” тоже почти не было видно, разве что отдельные фрагменты среди антенн и вентиляционных шахт. Зато открывался роскошный вид на противоположный склон балки – целая россыпь домиков среди зелени, а левее и выше - стандартные пятиэтажки и школа с пятиконечной звездой из красных лампочек на крыше фасада (этот элемент декора служил, очевидно, для патриотического воспитания). Всё это подымалось ярусами вверх по склону. Но больше всего мне нравился одинокий кипарис далеко-далеко на гребне горы. Он четко, как игла, вырисовывался на фоне неба, а из-за расстояния казался синеватым и не толще спички. Тем не менее, я точно знаю, что это был именно кипарис, потому что ни одно другое дерево не может иметь такой формы. Я очень любила на него смотреть.
Где-то там наверху, на горе, находился дендрарий. Я никак не могла решить, видно его с лоджии или нет. Верх горы был покрыт сплошной зеленой массой деревьев, но был это дендрарий или что-то другое, решить было невозможно. Ходить в дендрарий я очень любила, но удавалось мне это нечасто. Мои родители такими вещами не увлекались, и соблазнить их походом в дендрарий было трудно. А когда я выросла настолько, чтобы ходить в общественные места самостоятельно, то все равно не ходила из-за отсутствия компании. Одной было как-то стрёмно, а никто из родственников опять-таки моего
интереса не разделял. Вообще, отсутствие подходящей компании сильно портило мне жизнь во время последних поездок. У взрослых была своя компания, в которой мне, разумеется, делать было нечего. С двоюродной сестрой и братом мы были разными людьми с практически полным отсутствием общих интересов. Мой собственный брат был младше меня на целых девять лет, что делало наши отношения иллюстрацией к поговорке “гусь свинье не товарищ”. Вне семьи я практически не бывала, что сводило к нулю все шансы завести себе друзей на стороне. А ведь сколько было интересных мест, куда можно было бы сходить, если бы только было с кем!
Когда на Комсомольской так неожиданно увеличилась площадь, мы, приезжая в Сочи, стали жить там. После реконструкции из четырех комнат две оказались проходными и две изолированными. Старая большая комната была проходной и раньше, потому что только через нее можно было попасть в маленькую, спальню. Теперь через нее же можно было попасть в новую большую комнату, из которой, в свою очередь, можно было попасть в еще одну, новую, спальню. В обеих новых комнатах были большие лоджии. Одну я уже описала. Вторая лоджия выходила на тот же обрыв, что и кухонный балкон, и больше всего напоминала бетонную коробку. Там все было из бетона – стены, пол, потолок и барьер
. Мы жили то в одной, то в другой спальне, то в первой проходной комнате, которую тетя Золя перегородила пополам ширмой из плотной ткани.
Один наш приезд мне запомнился особенно хорошо. Кажется, мне было тогда 11. Мы только-только приехали и разместились со своими пожитками в новой спальне с лоджией. Меблировка комнаты состояла из двух или трех, сейчас уже не помню точно, кроватей, письменного стола, пары стульев и книжных полок, на которых стояли, поджидая меня, мои любимые книжки. Вообще-то я уже выросла
из младшего школьного возраста, для которого издательство “Детская литература” рекомендовало книгу “Хоббит”. Но любила ее по-прежнему, и, соскучившись за год, предвкушала, как буду смаковать давным-давно знакомые страницы. А чтобы не тратить время на поиски и сразу заняться любимым делом, я спросила двоюродного брата, где “Хоббит”. Он показал. И спросил, а знаю ли я, что у “Хоббита” есть продолжение. Я, разумеется, этого не знала.
С чем бы сравнить мое состояние в тот момент? Наверно, только с состоянием Эллочки-Людоедки, когда Остап Бендер сказал, что у нее не мексиканский тушкан, а гораздо более ценный мех – шанхайский барс. Иметь возможность читать “Хоббита” само по себе было счастьем. Но иметь в своем распоряжении еще и продолжение, о котором я раньше и
не подозревала, – это была уже чистая фантастика. Так хорошо не бывает. Тем не менее, именно так и было. Через несколько секунд я держала в руках продолжение, а старина “Хоббит” сразу же отошел на второй план.
В моих руках оказалось первое советское издание, причем даже не “Властелина колец”, а первой его части, называвшейся в том переводе “Хранители”. Вся книга полностью была издана на русском языке значительно позже. Тот, кому удалось “протащить в печать” первую часть, отлично понимал, что со второй и третьей этот номер не пройдет. Поэтому в конце книжки, кроме обычного оглавления, было оглавление двух последующих томов с кратким резюме каждой главы, чтобы было ясно, чем дело-то кончилось. И в то лето, и в следующее я буквально зачитывалась этой книжкой
Начитавшись буквально до одури, до гудения в голове, я выходила на пустую бетонную лоджию и вперяла тоскующий взор в обрыв напротив. Обрыв в этом месте представлял собой сплошную глинистую осыпь с редкими пучками травы, а на самом верху была сплошная стена темной зелени, – там рос большой вяз, нижние ветви которого свисали с обрыва вниз. Навалившись грудью на бетонный барьер, я с тоской думала о том, почему придуманный мир настолько лучше настоящего, и нельзя ли что-нибудь в этом отношении предпринять. По всему выходило, что предпринять можно только одно - завалиться на кровать и снова погрузиться в чтение. В этой блаженной нирване я и проводила все свое свободное время.
В течение следующих восьми – девяти лет у меня была тайная страстная мечта – прочитать два оставшихся тома и узнать, что же было дальше. Из оглавления в конце книги было, конечно, видно, что все кончилось благополучно. Но это было не то. Меня интересовали подробности. И самое интересное, что на протяжении всех этих не то восьми, не то девяти
лет мой интерес к “Властелину колец” нисколько не угас, не уменьшился, не отошел на второй план и не трансформировался в интерес к чему-то другому.
Я никому не рассказывала о своей тайной страсти. Я вожделела молча. Собственно, обсуждать это мне было абсолютно не с кем. Никто из моего мелитопольского круга общения не то, что не читал - даже не слышал ни о такой книге, ни о таком авторе. У некоторых из моих друзей, то есть, конечно, у их родителей, были неплохие библиотеки. В каждом отдельном случае почва тщательно зондировалась на предмет наличия там вожделенного Толкина, и в каждом отдельном случае результат был отрицательный. Бывая в гостях в каком-нибудь новом доме, я воровато оглядывала книжные полки, – а вдруг? Но и тут меня неизменно ждало разочарование. Ей-Богу, можно было подумать, что эта книга была написана в единственном экземпляре - для меня.
На дворе стояла первая половина восьмидесятых годов, и я, наверно, была одной из первых фанатов Толкина на территории СССР. Естественно, при создавшихся обстоятельствах мое фанатство было вещью в себе. Единомышленников у меня не было, поскольку я увлекалась вещами, совершенно неизвестными и непонятными для моих ровесников, - по крайней мере, для тех из них, с которыми мне приходилось непосредственно сталкиваться. А попытаться заинтересовать кого-нибудь Толкином, дав почитать его книги, я не могла за неимением таковых.
Все это является прекрасной иллюстрацией феномена Зейгарник, - психологического явления, суть которого заключается в том, что неоконченное действие запоминается гораздо лучше, чем то, которое удалось благополучно завершить. Вполне возможно, что, если бы мне удалось прочитать “Властелина колец” сразу до конца, как это, вообще-то, и положено делать с литературными произведениями, он не произвел бы на меня столь сокрушительного действия.
Мечта дочитать эту книгу до конца была по тем временам совершенно неосуществима, – по крайней мере, для меня. Я была согласна и на меньшее. Огромным счастьем было бы заполучить в свою собственность “Хоббита” или “Хранителей”. Но и это было невозможно. Что в магазинах такое не продается, я усвоила еще в детсадовском возрасте. Такого явления, как черный книжный рынок – т.е. место, где бы постоянно собирались книжные барыги и куда можно было бы прийти и купить из-под полы с большой переплатой то, чего нельзя купить в книжном магазине за установленную государством цену, - в Мелитополе не существовало. А значит, и искать было негде.
Однажды в какой-то газетной статье я случайно прочла, как автор горько жаловался на ассортимент московских книжных магазинов, – дескать, в отделе иностранной литературы только “Властелин колец” в оригинале, не очень-то разгуляешься. Ах, меня бы в этот книжный магазин! Уж я бы разгулялась. Стоит, наверно, жутко дорого (думала я). Но если бы у
меня был реальный шанс попасть туда, где продавалась моя мечта, я бы копила деньги. Я бы сдавала бутылки. Я бы что-нибудь придумала. Но шанса не было.
Впрочем, в конце концов, моя мечта осуществилась, совсем как в нравоучительных советских мультиках о старательных детках и добродетельных зверюшках. В начале девяностых мне удалось не только прочитать, но и приобрести “Властелина колец” в свою полную и безраздельную собственность. Учитесь, дети, на моем примере. Кто хочет, тот добьется. Ищите – и обрящете. Дорогу осилит идущий. Без труда не вытащишь рыбки из пруда. Терпение и труд все перетрут.
Такова вкратце история моей великой страсти к творчеству Дж.Р.Р.Толкина, начавшейся в городе Сочи в один из прекрасных летних дней первой половины восьмидесятых годов двадцатого столетия от Рождества Христова.
***
Все когда-нибудь кончается. А быстрее всего кончается отпуск. Не успевала я как следует нарадоваться тому, что я – в Сочи, как уже заходил разговор о покупке обратных билетов. Ведь брать их нужно было заранее. А когда билеты взяты, начинается обратный отсчет. С каждым днем близится отъезд.
И вот этот день наступает. Вещи опять пакуются в большой красный чемодан с ремнями и пряжками. Мы едем на вокзал. Уезжать из Сочи мне никогда не хотелось. Но приходилось покоряться необходимости.
За все годы я помню один-единственный веселый эпизод, связанный с отъездом. Тогда провожать нас отправилось множество родственников. Они разобрали все наши вещи, так что мы сами ничего не несли. А одна из моих тетушек захватила с собой еще и пакет с мусором, чтобы выбросить его по дороге в мусорный контейнер. В суматохе она сунула его другой моей тетушке, которая осталась под впечатлением, что несет что-то из наших вещей. Когда мы садились в вагон, она вручила этот пакет маме. Мама очень удивилась: “Это не наше!” Тут удивилась и тетушка: “А чье же?” Когда заглянули внутрь, стало ясно, что это бытовой мусор, совершивший путешествие до железнодорожного вокзала. Но еще смешней было бы, если бы она просто, без комментариев, оставила этот пакет в нашем купе.
Что еще можно сказать об отъезде? То, что это грустно. Я сижу и, не отрываясь от окна, пытаюсь впитать в себя прекрасный мир, который покидаю. А он бежит мимо все быстрей и быстрей, такой же прекрасный, как в тот день, когда мы приехали. Ничего не изменилось, просто я уезжаю.
Конечно, я знаю, что это бесполезно. Воспоминания ничего не заменят. Но все равно, стоит хоть немного отвлечься от окна, как мне кажется, что я теряю что-то важное. Город кончается, за окном тянутся горы, а с другой стороны – пляжи, усеянные телами на подстилках. Море сверкает на солнце. До него рукой подать, но я больше не окунусь в него до следующего приезда.
В период моей толкиномании отъезд из Сочи означал еще и разлуку с любимыми книжками, что тоже не улучшало настроения. Сейчас книгу можно отксерить. Но тогда о таком чуде, как ксерокс, если кто-то и слыхал, то это наверняка была не я. Приходилось довольствоваться тем, что я знала на память все стихи.
Вообще, обратная дорога мне как-то мало запомнилась. Я просто знаю, что она была. Единственный наш отъезд, который я могу вычленить из общей массы за счет того, что помню какие-то детали, имел место, когда мне было 13. Мы уезжали из Сочи под дождем, который не прекращался долго-долго. Я помню извилистые траектории
дождевых капель на оконном стекле и горы под дождем: зеленые, сине-зеленые, синие и голубые, а еще дальше – нечто туманное и трудноразличимое, то ли еще горы, то ли уже облака. То ли Кавказские, то ли Мглистые. Радио в вагоне, как заведенное, исполняло обычный ассортимент поп-музыки тех лет. А капли бежали и бежали по стеклу, оставляя все новые и новые дорожки. Колеса стучали успокаивающе, дождь, в конце концов, прекратился, а я постепенно переключалась на другую волну – с волны сочинской на волну мелитопольскую. Постепенно горы сошли на нет, за окном потянулась унылая плоская равнина, и смотреть в него стало неинтересно.
Иногда мне снятся сны про Сочи. Собственно, их две разновидности. Первая – про то, как я туда еду и не могу доехать. То вдоль дороги начинают извергаться вулканы (они-то откуда там взялись?). То вдруг оказывается, что разобраны пути, или происходят какие-то совсем уж алогичные вещи, которые, впрочем, во сне вполне логичны. Вторая – что я в Сочи и очень радуюсь, но постепенно понимаю, хоть мне этого очень не хочется, что это не Сочи, а какой-то суррогат. Похоже, но не то.
Подсознание иррационально, но оно знает, что к чему. Того Сочи, о котором здесь шла речь, уже не существует. Нет ни загадочно-алогичного дома по улице Орджоникидзе, ни столетних дубов, росших во дворе. И многого другого тоже уже нет. И нельзя не поразиться изобретательности мозга, который умудряется оформить в сотне вариантов
эту простую мысль. Впрочем, даже самый изобретательный мозг может ошибаться. Ведь, по большому счету, все это продолжает существовать - в нем самом. А теперь еще и в виде компьютерного файла.

Июль 2004г.
sochiandhobbit@narod.ru

Используются технологии
uCoz